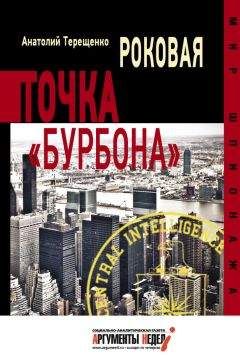Свекровь решила, видно, что муж сослал Варвару за грехи, и обращалась с ней по всей строгости. Познакомившись поближе с этой железной старухой, Варя поняла, откуда у Толи многое такое, что приводило ее в ярость, откуда эта вечная разбежка: говорю одно — в уме держу другое… Даже если бы старуха ее обласкала, Варя не ужилась бы с ней. Но тут обращение было суровое.
— А чи ты можешь, Варька, хлеб печь? А чи ты можешь хату мазать? А учили тебя борщ варить, чи ты Толика в столовках кормила?
Анатолий все предвидел, волновался, писал матери длинные письма: «Мамо, я вас умоляю заради меня относитесь до Вари як до ридной дочки».
— Вот как он тебя любит; наверное, больше, чем старуху мать, — поджав губы, говорила Ганна Свиридовна.
В поле она Варю не пускала: пусть делает, что надо в хате, за свиньями смотрит, на огороде копается. Тем более никто не спросит: Варя же не колхозница. В клубе — кино, свекровь двери на засов:
— Нечего тебе, мужней жене, там делать. Это у вас на стройке все можно — бабы в штанах ходят, на столбы лазят.
Это была какая-то старорежимная жизнь, как в рассказах и стихах, которые они проходили в седьмом классе по украинской литературе: «Сестри, сестри, горе вам, моі голубки молодіі, для чого в світі живете?»
Вдруг она поняла, что ничего не значит для мира и людей, живет на свете такая Варя Зеленко или нет, от этого ни холодно ни жарко. Хорошо, что это как сон — можно проснуться, можно уехать. Кто над Варей хозяин? Нет над ней хозяина. Она сама как-нибудь прокормится и Мишку прокормит.
Хата у Зеленок была богатая. Сундуки набиты разным барахлом — кожухами, кацавейками, платками, спидницами. И все было новенькое, ненадеванное. А старуха ходила бог весть в каком старье.
— То ще мужик покойный наживал, — говорила свекровь, лаская вещи. — А вот це вже я.
— А для чего оно все вам? — спрашивала Варя с недоумением.
— Наживи свое, тогда поймешь.
Спасибо. Она не хочет. На кой это ей! Она хочет назад на ГРЭС. Чтоб глядеть на землю с высоты, чтоб железные листы, существовавшие порознь, сливались вдруг под ее рукой, чтоб старый мастер говорил: «Ничего заварено, хваликвицированно».
— Уезжаем, — сказала она старухе.
И та беспомощно присела на стул и неожиданно расстроилась:
— То ж ты из-за меня? А?
И Варя с легким сердцем возразила:
— Да нет, мамо, что вы. Я из-за себя.
Возвращение на ГРЭС осталось в ее памяти как дивный праздник. Хотя встретили ее без особого ликования: «А, приехала, колхозница… Ну, давай, давай». На участке вакансий не было — прорабу пришлось уговаривать начальство. И комната, конечно, была уже занята, и пришлось идти в уголок к какой-то тетке, и Мишку в детский сад не хотели брать…
Но это было тысячу раз праздник. Потому что все здесь было милое, близкое, свое, хотя и строилось для каких-то неизвестных людей, которые придут хозяйствовать после Вариного отъезда. А хата, которая должна была перейти вместе со всеми сундуками Варе и Толику в вечную собственность, была совершенно чужой, хоть провались она, честное слово.
Однажды Варя уселась в холодке и задумалась (было о чем подумать), и вдруг слышит крик.
— Где Варвара?! — орет мастер. — Не видали, хлопцы, Варвару? Она мне позарез нужна сию минуту. И на тебе, нету, прохлаждается, фефела.
А она притаилась и с удовольствием слушала этот сердитый голос. До чего же это приятно, что в ней вот такая нужда, что она требуется сию же минуту. Пожили бы вы вот так, как она, у свекрови, поняли бы!
Варя снова была при деле, и жизнь казалась ей легкой и красивой, хотя она вставала в шесть утра и ложилась в двенадцать ночи, хотя работа была тяжелая, а развлечений особенных не было, разве что книжки да кино. Да и то если картины не военные и не производственные.
Толик писал длинные письма, всегда начинающиеся одинаково: «С крепким рукопожатием и нежным поцелуем к тебе твой муж Анатолий Семенович». А дальше следовали подробные инструкции, как ей должно жить. Но они ее не сердили: естественно, мужчина хочет повелевать. И пускай себе повелевает на здоровье, тем более речь шла о вещах безобидных: «А велосипед мой смажь», «А из полотна, что мама прислала, наделай рушников». О возвращении в деревню — ни слова. В конце концов, он знал и Варю, и мать.
А Варвара с радостью первооткрывателя бродила по поселку, с удовольствием разговаривала со знакомыми на разные возвышенные строительные темы, ходила в клуб на каждый вечер, чтобы потолкаться среди людей. И чья-то отчаянная фраза: «Деятели, называется, кабель дают пятьдесят миллиметров, а труба сорок пять, и хотят, чтоб влезло» — вызывала у нее желание куда-то бежать и ругаться, хотя ее сварщицкая должность ни малейшего отношения ни к кабелю, ни к трубе не имела.
Варя уже многое умела. И упивалась своим умением. Она заглядывала в глаза мастеру, когда решалось, кому что варить. Она волновалась и интриговала, как актриса при распределении ролей.
Варваре разрешали варить по шестому разряду. Но нужно было оформиться, хотя бы ради денег. Тут была существенная разница в деньгах, а ей приходилось туговато. Варя привыкла не очень стесняться в тратах. А на что еще годятся деньги? Солить?
В день получки Варя совершает орлиный облет поселковых магазинов. Благо их немного, всего три. И оставляет сразу половину пачки, которую отсчитал ей кассир. Чего только не накупит — и швейцарского сыру, и халвы, и венгерский костюмчик Мишке на вырост (когда еще он сможет носить, а деньги уже уплыли!). Или купит что-нибудь веселое и уж совершенно негодное в хозяйстве— чешуйчатую театральную сумочку или серебряный «Спутник», который, если заведешь, играет «Широка страна моя родная» и сигналит «бип-бип-бип». Ей очень нравится тратить деньги! Самое любимое ее занятие (после сварки, конечно).
Без Толиной зарплаты положение было уже не то. Словом, надо было сдавать на шестой разряд.
Вообще-то говоря, она бы легко сдала экзамен, если бы, кроме практики, не требовалась теория. Теория ей не давалась. Варя истово читала и перечитывала учебник «Электродуговая сварка» и огорчалась. Как это умудрились люди написать совершенно непонятно о вещах, которые она знала досконально, до тончайших тонкостей!
«Автоматическая головка при нарушении равенства V3=Vn должна быстро и точно восстанавливать его», — читала она и говорила: «Вот гадство». Это было ее любимое словечко.
Нашелся учитель — Василь, паспортист, недавно переведенный с Луганской ГРЭС. Хороший, застенчивый такой парень. Он очень понятно умел объяснять. Только часто отвлекался: уставится на Варю и смотрит своими черными глазищами.
Потом занятия прервались. С Василем случилась беда — он упал с площадки и здорово разбился. Варя, конечно, побежала в больницу.
— Вы ему кто? — спросил доктор.
— Никто.
— А не знаете, нет ли у него тут родственников? Надо бы ночью подежурить. Дело серьезное.
Какие у монтажника родственники! И Варя несколько ночей просидела у Василевой постели. И потом каждый день ходила к нему в палату, носила бульончик, приготовленный дома, на электроплитке, и яблоки, купленные у спекулянтов втридорога.
Потом, когда пошло на поправку, стала ходить реже. Тем более что врач сказал:
— Все отлично, скоро ваш знакомый будет по крышам лазить.
Прямо из больницы Василь пришел к ней. И говорит так торжественно:
— Я тебя люблю, Варя. Я тебе раньше боялся сказать, потому что не знал, буду я здоровым или калекой. А сейчас говорю: сделай меня счастливым, будь моей женой.
— Я не могу, — сказала Варя.
— Муж? — спросил он и печально усмехнулся.
— Я б десять мужей бросила, если бы тебя любила, но я ж, Вася, его люблю. Можешь ты понять?
Он стал ходить за ней, как приваренный. Куда она, туда он. И все говорит ласковые слова:
— Да ты пойми, я ж тебя на руках носить буду. Я Мишу буду жалеть лучше родного отца.
В конце концов Варя сказала:
— Знаешь что, Вася, надо тебе уехать отсюда.
— Ты этого хочешь? — спросил он и страшно побледнел.
Василь уехал на Старобешевскую ГРЭС. И оттуда посылал ей письма. Второй год уже пишет, пишет, все на что-то надеется. Он и деньги ей посылал. «Я, — пишет, — слишком много получаю. И они мне руки жгут, те сотенные, потому что вы с Мишей нуждаетесь. Буду посылать теперь каждый месяц. Ты ничего не думай — это просто так, от широкого сердца».
Ну, она ему, конечно, их отослала обратно, те деньги: «Не надо, Вася, пожалуйста».
В тот день, когда я был у Вари в гостях, соседка Алина принесла ей с почты сразу два конверта с одинаковым штампом: «Старобешево».
Соседка Алины была тощая печальная женщина лет двадцати семи.
— Мало у нас заботы о матерях-одиночках, товарищ корреспондент, — сказала она, заметив на столе мой блокнот с редакционным бланком.