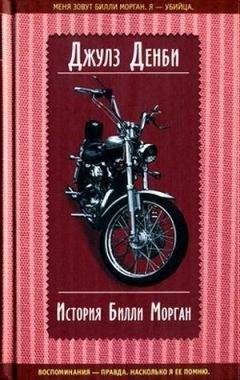Я не смогла ей рассказать. Можете назвать меня малодушной, но я не смогла рассказать ей, что национальная газета напечатала историю, в которой всему миру в недвусмысленных выражениях поведала, что она – потасканная шлюха-наркоманка, а ее обожаемый сын – злобный головорез. Кто бы ни читал это – ты, Лекки? – спросите себя, как бы вы поступили? Да, я так и думала. Господи, все мы иногда бываем лжецами, все мы всего лишь люди. Кто-то как-то сказал: «зло – это отсутствие сострадания». В таком случае только безжалостный ублюдок смог бы прочитать эту статью от корки до корки жалкому, слабому созданию, лежавшему передо мной.
Ну, милая, понимаешь, они в этой газете ужасные снобы, да, понимаешь, та девица, что разговаривала с тобой? Она вроде такая шикарная, верно? Так что, она, гм, написала всякое такое про нас… ну, что у нас мало денег и живем мы не в роскошных домах, и тому подобное, понимаешь? Она считает нас, ну, не такими шикарными, как она. У нас нет образования, мы не учились в университете, как она, и тому подобное. Джас, она не поняла, как мы живем, и почему ты принимаешь… свои лекарства и тому подобное, ну знаешь, такой тип людей, они живут в своем мирке и не понимают, как живут остальные, что нам приходится делать, чтобы выжить. Понимаешь, Джас?
Она очень долго молчала, и я решила, что она уснула. Я собиралась было сказать что-то еще, когда она закашлялась и заговорила так тихо, что я едва разбирала ее хриплый шепот. Точно она говорила сама с собой.
– Это нехорошо, что она так с нами поступила. Написала такое. Это не моя вина, что я не смогла… что я не ходила в школу. Моя мама была такой же, как я, Билли, она… некому ей было помочь, Билли, она была проституткой, здесь, на дороге. А что ей оставалось? Нас у нее было четверо: я, наш Стиви, да Рик с Тони. Отцов ни у кого не было, я ни одного не знала. Только мама да мы. Стиви и Рик померли уже, ты знала? Оба, да. А про Тони я много лет ничего не слыхала. Билли, я не хотела стать такой, я не хотела, ты знаешь; когда я была девочкой, я хотела стать певицей, как Дайана Росс,[58] я здорово пела и умела танцевать… Я репетировала, а потом пела маме и ребятам – «Любимую крошку», «Не торопи любовь» – все хиты… Мы выключали в комнате свет, и Тони светил фонарем, это у нас прожектор такой был; ой, мы тогда так смеялись…
Она улыбнулась, ее пальцы медленно двигались в такт песне, которая звучала у нее в голове. Затем она вздохнула, слеза медленно скатилась из уголка глаза в спутанные волосы.
– Я любила Терри, Билли, я не хотела, чтобы он ушел.
Я бы все сделала, чтобы только он остался, все, честно, но, может, он не любил меня так, как я его любила. Я не дурочка, я знаю, как это бывает, я просто хочу… мне уже нечего ждать, наверное, не знаю… Но Натти, ох, Билли, я так люблю его, он мой возлюбленный, мой ангел, он всё для меня, все… Неужели эти, из газеты, думают, что я его не люблю? Что я не хотела, чтоб он ходил в школу и нашел хорошую работу? Я хотела, хотела…
Она тяжело закашлялась, странным, резким кашлем, дрожь охватила ее, сотрясая все тело. Я приложила руку к ее лбу: лоб горел. Чахоточные пятна пылали у нее на щеках. Я мысленно сделала пометку – показать Джас врачу, как только смогу. И Мартышку тоже, его нужно проверить. И Натти. Черт побери, всех нас. Может, стоит просто нанять какой-нибудь дерьмовый автобус.
– Ш-ш, Джас, конечно, ты его любишь. Мы все знаем, что ты делала все возможное и это не твоя вина, не плачь, милая, не плачь…
– Мне ужасно плохо, я так устала… Билли, Билли… – Она внезапно схватила мою руку с удивительной силой для такого хрупкого существа. Ее рука была горячей и очень сухой.
– Что, милая? Что? Я здесь, не волнуйся.
– Билли, позаботься о Натти, позаботься о моем мальчике, обещай мне, ты ведь его Крестная Фея, помнишь? Когда он был маленьким. Помнишь? Обещай мне, Билли… Натти…
Ш-ш, успокойся, не волнуйся, я позабочусь о нем, ты же знаешь, разве я не заботилась о нем всегда? Успокойся, постарайся немного поспать, хорошо?
Ее огромные глаза уже закрылись, рот расслабился, Если присмотреться к этим жалким обломкам, можно разглядеть хихикающую двенадцатилетнюю девчонку, распевающую хиты «Мотаун»[59] для матери, ее братья дурачатся в сырой комнатушке, а Тони светит своим фонариком-прожектором, и Джасмин Перл поет, поет.
Я убрала квартиру – ну да, пришлось это сделать, пока она и Мартышка спали, каждый в своем укрытии, где их никто не мог тронуть. Я набросила тонкое, свалявшееся одеяло на нее и пару пальто на Мартышку и оставила у дивана большую пластиковую бутыль с водой и несколько банок с «Нутриментом». Признаков местной шайки и новой настенной живописи видно не было, но я все же осталась и бессмысленно смотрела телевизор в комнате Натти, убавив звук. Я растянулась на узкой, пропахшей им кровати, ощущая сладкий запах мужского тела, его нового лосьона, что-то от Калвина Кляйна, благоухающее синтетическими лимонами. Современный изысканный парфюм, созданный для веселых беззаботных молодых, живущих весело и беззаботно, казался шуткой, ароматической иронией.
Я все время пыталась дозвониться Натти, оставила шесть или семь сообщений на его автоответчике, отправила несколько CMC: «Натт, иди домой СИЮ МИНУТУ или позвони СРОЧНО!!! Б.М.». Я ждала звонка от него, да хоть от кого, честно говоря; но никто не звонил.
У меня в голове завывала Черная Собака, вой походил на гул металлического колокола в глубоком тоннеле среди полых холмов, могильных курганов кельтских королей; мое темное наследие. Сквозь грубый металлический лязг я слышала отзвук слов Джас: «Ты обещала, обещала позаботиться о моем мальчике…»
Я руками зажала уши и закусила губу, пока не почувствовала вкус крови, но ужасающее эхо в черепе не смолкало. Пожизненный приговор.
Пожизненный приговор.
Я, должно быть, задремала, подскочила оттого, что кто-то громко стучал во входную дверь – мне показалось, кирпичом. Я неловко вскочила, запутавшись ногой в лоскутном одеяле, споткнулась и упала на пол, больно ударившись бедром. Ругаясь сквозь зубы и потирая ушибленное место, где теперь наверняка появится большой черный синяк, пошатываясь, я направилась к двери и прислушалась, но злобные голоса стихли, я вернулась, покачала головой и зевнула. Телевизор тихо бормотал, шла какая-то передача об антиквариате. Некто с восторгом уставился на кошмарную вазу, которую я бы не стала держать дома, когда парень на экране сказал, что она стоит десять штук. Десять тысяч за кособокий кусок глины, разрисованный пальцем. Я подумала, сколько хорошего можно сделать на деньги, которые выбрасывают на антиквариат, – искусственные почки, игрушки для детских домов, приличное жилье для беженцев. Наивная, идеалистическая, старомодная чушь. Господи. В каком долбанутом мире мы живем. Я выключила телевизор. Я отлежала ухо, пока дремала, и потерла его, чтобы восстановить чувствительность.
Неудержимо зевая, я побрела в коридор и покопалась в вонючей куче пальто, скрывавшей Мартышку, – он спал, сопли засохли у него на носу и верхней губе, полосы от слез – единственное чистое место на лице. От него пахло, как от клетки с хомяками. Ткань, из которой он свил себе гнездо, служила прекрасной звукоизоляцией, на что он и рассчитывал, поэтому я снова укрыла его и пошла проведать Джас.
Она по-прежнему горела в лихорадке. Я разбудила ее и заставила выпить воды. Она закашлялась, и вода полилась изо рта. Я намочила чистое полотенце в холодной воде и протерла ей лицо и руки, споря сама с собой, стоит перетащить ее на кровать или нет. Она такая крошечная, а диван достаточно большой, так что я решила пока оставить ее здесь. Мне не хотелось думать о том, в каком состоянии она проснется, желая получить свое «лекарство», которое негде достать.
Я вернулась в комнату Натти и попыталась дозвониться до него. «Вас приветствует автоответчик "Оранж"…» Я оставила сообщение, попросив его срочно связаться, но не слишком надеялась, что он ответит.
Я позвонила Лекки, сообщила ей, что здесь приключилось, и сказала, чтобы она меня не ждала; не сказать, чтобы она удивилась. Так ведь, Лекс? Я не могу выразить словами, как мне хотелось убежать от всей этой хренотени, побыть с тобой и твоей семьей, как нормальный человек. Мне хотелось сказать тебе: я люблю тебя за то, что ты прекрасный друг. Ведь даже когда ты сердита, в твоем голосе никогда не звучит это «от тебя все отвернутся». Я не могу выразить, как много это значит для меня.
«Вспомнив эту фразу, я сообразила, что должна позвонить еще одному человеку, пусть мне этого и не хотелось. Я разговаривала с мамой на прошлой неделе или на позапрошлой? Обычный бессмысленный разговор, она долго подробно описывала – только что получив фотографии – празднование годовщины свадьбы Джен, на которой играл оркестр и был специальный торт – «дизайнерский торт», несомненно, с сахарной скульптуркой в виде двух сердечек, над которыми держали гирлянду из роз синие птицы счастья. На Джен было пастельно-персиковое шифоновое многослойное платье и накидка со стеклярусом. Какая неожиданность! Вот если бы она надела ярко-красное, я бы упала в обморок. Девочки были в одинаковых пастельных ансамблях, а Эрик – о боже! – в зеленовато-голубом смокинге. Мне нужды не было смотреть на фотографии, чтобы представить себе, как они выглядели.