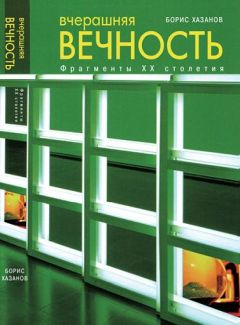“Конечно, помню, – сказал писатель. – Очень даже хорошо помню этот день”.
“Речь этого мудака помнишь?”
“Речь Молотова? А как же. Вот на этом месте стоял буфет”.
“Верно”.
“На нём стоял рупор, чёрный, из картона. Мы с мамой слушали”.
“А потом, первые недели?..” Гость вздохнул, махнул рукой, не дождавшись ответа, как будто хотел сказать: может, и помнишь, да ничего не знаешь.
“Все записывались, – сказал он, – я тоже. Конечно, если серьёзно, какие это были добровольцы? У нас вообще ничего добровольно не делается. Некоторых так даже просто хватали на улице, приказ – в ополчение, и точка; попробуй откажись. Но я тебе так скажу, настроение было – не у всех, конечно, у многих, – настроение такое, что надо! Немец наступает. Надо любой ценой остановить. Ты ведь не помнишь, что было перед войной”.
“Почему же, прекрасно помню”.
“Что ты можешь помнить... У тебя в этой книжке столько наворочено, но ведь это же всё из пальца высосано!”
“Ты разве читал?”
“Читал, а как же”.
“Где же ты её увидел?”
“Там, где ж ещё. Увидел и купил”.
“Откуда ты знал, что это я?”
Отец усмехнулся.
“Я теперь всё переписал заново, – сказал писатель. – Но они у меня всё отняли. А вообще-то не всё высосано”.
“Ладно, не обижайся. Что я хотел сказать... Перед войной. Ведь что говорилось. От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней. Малой кровью, могучим ударом. Ни одной пяди своей земли! Ведь это годами, изо дня в день, с утра до вечера. Пели и гремели. Надо готовиться к войне, надо подтянуть кушаки. Опять же эти парады. Думали: да, надо потерпеть, зато у нас самая сильная армия, в два счёта справимся с любым врагом. Эти песни... – Бородатый гость сморщился, схватился за голову, словно от боли. – Полетит самолёт, застрочит пулемёт. И помчатся лихие тачанки! Это они собирались на тачанках с немцами воевать. Не скосить нас саблей острой... Кто это в наше время воюет с саблей? Будённый со всей своей кавалерией обосрался. Гуталин вообще куда-то слинял”.
“Лихо выражаешься, – заметил писатель. – Где это ты научился?”
“Научишься... Короче, что хочу сказать: настроение было такое, что –хватит. Теперь не до упрёков, что было, то было и быльём поросло. Тридцать седьмой год, раскулачивание, всё надо забыть. Не до этого теперь. Так что, с одной стороны, за всеми следят, кто что сказал, кто не верит в нашу победу, увиливает, кто ещё не записался добровольцем. А с другой – всем ясно: надо, и ничего не поделаешь. Митинг, тут же и райкомовские деятели, и эти, конечно, фуражки с голубым околышем, только оставили свои фуражки дома. В общем, по одной только Москве чуть не двести тысяч подали заявление. Может, и больше... Прямо с митинга – на пункт формирования районной дивизии нашего Куйбышевского района. Три часа на сборы; еле-еле успел прибежать к вам на вокзал попрощаться. Кавардак был невероятный. Немец рвётся к Москве, может, уже совсем близко, никто толком не знает, сводки – сплошное враньё, все только догадываются, да что там догадываются – знают, а заикнуться никто не смеет: паникёр – и под трибунал. Засиделся я, пора идти”, – сказал отец.
“Побудь ещё немного”.
“Взгляни-ка ещё разок, на всякий случай”.
Писатель вышел в коридор, выглянул на лестничную площадку.
“Никого”, – сказал он, возвращаясь.
“Я о тебе беспокоюсь. Со мной-то они что могут сделать, – ничего”.
“Ты так думаешь?”
“Чего тут думать. Меня ведь всё равно что нет. – Пауза. – Да, так вот... Войско – смех один: кто в чём. В пиджачках, в штиблетах, в летних туфлях белых, как тогда носили, их надо было чистить зубным порошком. Сперва отправили на рытьё окопов. Где-то уж не помню, где; под Рузой, что ли. Никакого обучения, вместо оружия лопаты. Через неделю выдали обмундирование. Что такое бе-у, знаешь?”
“Бывшее в употреблении”.
“Так точно, тебя учить не надо. Сапог вообще не выдали. Ещё через неделю пришла партия винтовок, мосинских, образца девяносто первого дробь тридцатого года. Это же смех! Начали учить устав. Зачем учить устав, если никто почти что за всю жизнь ни одного выстрела не сделал? Хорошо ещё, что оставалось несколько дней до отправки на фронт. В общем, худо-бедно научили разбирать оружие, заряжать, стрелять по мишеням. Так что мы, например, смогли даже отразить первую атаку противника, сумели организованно отступить...”
“Я, наверно, многое путаю, – сказал отец, – давно было дело... К чему это я всё говорю? Дивизию прикомандировали к 32-й армии. На дворе осень, октябрь, ночи холодные. А мы в лёгких шинелишках. Да и немцы тоже. Думали к сентябрю вообще всё кончить... Это на наших-то дорогах... Споткнулись, реорганизовались – и снова наступление. Это я уже потом узнал, два танковых клина врезались с двух сторон, один с юга, другой с севера. За ними моторизованные корпуса. Ставка запретила отход. Сколько там народу полегло, один Бог знает. Оба прорыва соединились. Все оказались в котле, не только ополченцы, но и вся 32-я армия резервного фронта, и ещё одна, 24-я, и в придачу три армии Западного фронта”.
“В котле?”
“Это у немцев так называлось. В окружении. Сперва вроде бы поступил приказ пробиваться на Сычёвку, на Гжатск. Пытались прорваться, этот прорыв дорого обошёлся. А тут и вовсе связь со штабом прекратилась. Нам всё говорили, идёт помощь, а на самом деле командование бросило нас на произвол судьбы. Кругом леса. Пошли разговоры, что немцы никого в плен не берут, считают,что всё ополчение состоит из комиссаров и евреев. Сдаваться бессмысленно. Да и вообще от всего московского ополчения остались только отдельные отряды. Не отряды даже, а кучки полузамёрзших людей. Под Ельней полегло всё наше ополчение”.
Тишина, книги по-прежнему лежат на полу, створки шкафа распахнуты настежь. За окном сыплется снег. В самом деле, не надо ломать голову, потом разберёмся. А вот закусить бы не мешало, ты тоже, наверное, проголодался, бормочет писатель. Сбегать на кухню.
“На кухню не сметь. Потерпишь”.
“Никогда не думал, что тебя увижу”.
“Я тоже не думал”.
“Далеко тебе ехать?”
“Чем дальше, тем лучше”.
“Я тебя провожу”.
“Ни-ни”.
“Ничего со мной не будет. Или ты сам боишься?”
“Я? – спросил отец. – Меня нет и не было, заруби себе на носу. Ведь это самое логичное, а? Самое правдоподобное”.
“Так-то оно так”.
“Я погиб за Родину в октябре сорок первого, – сказал гость торжественно и даже не без некоторого самодовольства. – Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей... Все приказы так заканчивались. Вы похоронку получили?”
“Не знаю... мама об этом ничего не говорила”.
“Не получили. Да какие там похоронки. Не до того было... Пал за Родину, а где похоронен, хрен знает, может, под Ельней, а может, на Северном полюсе... И сколько нас было, и где мы лежим, никто не знает и никогда не узнает... Никто нас не хоронил, не до того было. Пали, и пускай лежат. Умер Максим, и хрен с ним. Весной снег сойдёт, вороны расклюют. Ворон знаешь сколько в том году развелось?”
От густого снегопада в комнате стало сумрачно, поблескивали сумасшедшие глаза гостя.
“Говорилось, пять дивизий народного ополчения, может, пять, а может десять – а где они? Нас всё равно что не было”.
“Дальше”, – попросил писатель.
“Зачем тебе? Хочешь обо всём этом написать? Ну, валяй, пиши. Сочиняй! Всё равно ничего не получится. Об этом писать невозможно. Кто там был, не расскажет, а кто захочет написать, выйдет неправда”.
“Ну а всё-таки”.
“Всё-таки... Сначала шли кучками, старались только не потерять направление – на восток. Шли, шли, одного нет, другого нет. Потом я вовсе остался один. В одной деревне попросился ночевать. Хозяйка с детьми на полатях, мужа нет. Положили меня на лавке. Только было задремал, постучали. Да как ещё постучали! Входит патруль: офицер и два солдата. Ищут партизан. Я тогда ещё не говорил по-немецки, но кое-что понимал. Немец, видимо, знал немного по-русски, спрашивает: это кто? Хозяйка, вечно буду её помнить, отвечает: здешний, из нашей деревни. У меня отросла борода, весь оборванный, вполне могу сойти за колхозника. Почему не у себя дома? А у него дом сгорел. Почему в военном? Хозяйка объясняет: был мобилизован, дезертировал, не хочет с вами воевать. Пошли! Привели в штаб. А там...”
“Как! – вскричал писатель. – Вернике?”
“Какой ещё Вернике”.
“Ты же говоришь, читал... – Он ходил взад-вперёд по комнате. – Так значит, – бормотал он, потирая лоб, – вопреки всему, вопреки всякой вероятности и даже вопреки моему замыслу... ты жив”.
“Можно считать и так”, – сказал отец и развёл руками, как бы извиняясь.
Февральский снег валит густыми хлопьями, пурга разгулялась, исчезли дома, не видно перекрёстков, и фигура странного визитёра растворяется, тонет в белой каше.