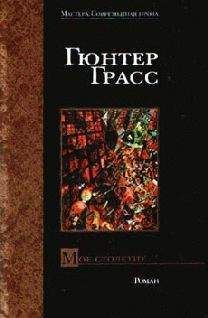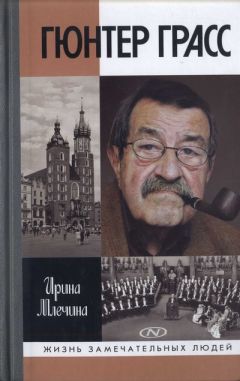По счастью, одна из подводных лодок, а именно «Сальта», стояла к началу войны на Фольклендах в порту из-за повреждений в машинной части, а другая, «Сан Луи», хоть и участвовала в операции, но с неподготовленной командой, которая, как выяснится впоследствии, была решительно не в состоянии обслуживать сложную атомную электронику торпедных систем. «Вот почему, — писал я далее в своем отчете, — британский флот, а также и мы, как нация, отделались легким испугом, тем более что у англичан, как и у нас, до сих пор сохранилось в памяти свидетельство боевой славы — первое сражение при Фолклендах от восьмого декабря 1914 года, когда до тех пор не знавшая поражений эскадра под командой легендарного вице-адмирала графа фон Шпее была уничтожена превосходящими силами противника».
Чтобы, однако, подкрепить мои, выходящие за рамки военно-технических проблем и поднятые в моем отчете исторические соображения, я восемь лет назад, когда пришлось уйти Шмидту и начался поворот с приходом Коля, приложил к своему весьма трезвому анализу ксерокопию одной картины. Речь идет о морском сюжете кисти весьма известного мариниста Ганса Бордта, посвященном гибели одного броненосца в ходе вышеупомянутого морского сражения. Покуда на заднем плане корабль кормой погружается в воду, немецкий матрос на переднем плане, уцепясь одной рукой за доску, гордо вздымает другой, правой, рукой флаг, без всякого сомнения, флаг тонущего корабля. Как вы видите, это не простой флаг. Вот почему, дорогой друг и товарищ, я пишу вам столь подробно и с таким множеством отсылок к прошлому. Ибо на той драматической картине мы узнаем военный флаг нашего рейха, который совсем недавно, в связи с лейпцигскими демонстрациями по понедельникам, снова занял достойное место в современной истории. Правда, при этом возникали отвратительные побоища. О чем я крайне сожалею. Ибо согласно написанному мною по заказу отзыве на процесс объединения, замена ничего не значащего лозунга «Мы — народ!» на лозунг, сулящий успех политикам «Мы — один народ!» должна была происходить исключительно мирным путем, вполне благопристойно. С другой стороны, мы должны радоваться, что тем бритоголовым и на все готовым парням — они еще известны под названием «скинхеды» — в мгновение ока удалось с их в большом количестве представленными военными флагами рейха захватить и определить понедельничную сцену Лейпцига и — не спорю — с чрезмерной громкостью придать убедительную силу требованию единой Германии.
Из чего можно заключить, какие окольные пути избирает порой история. Хотя иногда ее приходится и подталкивать. Как хорошо, что я, едва приспело время, вспомнил свой тогдашний отчет по Фолклендам и упомянутую выше картину. Тогда господа из AEG [61], как это наблюдается повсеместно, доказали свое полное историческое невежество, а потому и полную неспособность понять и оценить мой храбрый вневременной прыжок, но с ходом времени они, возможно, постигли более глубокий смысл военного флага. Ибо теперь мы видим его все чаще и чаще. Снова способные пылать воодушевлением молодые люди выходят с ним и высоко его поднимают. А с тех пор, как объединение совершилось и завершилось, я должен вам признаться, любезнейший друг, что меня преисполняет гордость, ибо я сумел угадать намек истории и своим отчетом поспоспешествовал, когда речь зашла о новом возвышении национальных ценностей и о том, чтобы наконец-то предъявить всему миру наш боевой флаг…
Не-а, такого у нас больше никогда не будет! С тех пор, как ему не довелось последний раз услышать среди леса клич Халалали — и где прикажете слышать? — на встрече охотников в лесу, да и его закадычный дружок, поставщик сыра-колбасы-пива приказал долго жить, и лишь последний из всей троицы, успевший своевременно перемахнуть оттуда сюда и во всю мочь рассесться в своей вилле у нас, на Тегернзее, для кабаретистов просто не осталось материала, ибо даже правящий ныне тяжеловес не способен восполнить отсутствие этого трио. С тех пор воцарилась скука. Осталось дурацкое сюсюканье, разбавленный кофе, шуточки по поводу бровей и тому подобное. Смеяться больше не над чем. А мы, профессиональные шуты нации, исполнившись тревоги, решили посоветоваться по этому поводу. Ну, само собой, в каком-нибудь баварском трактире. «Лесорубы» зовется этот закуток, где до нас и другие собирались по более или менее доступной цене со своими шуршащими бумагами, но это уже быльем поросло. Теперь мы беспомощно сидели в почтенном кругу. На полном серьезе был зачитан реферат «О положении немецкого кабаре после ухода Франца Йозефа Штрауса с особым учетом произошедшего почти сразу после его смерти объединения», но особой радости этот реферат никому не доставил. Скорее уж мы сами, собравшиеся здесь на полном серьезе комики, представляли собой мишень для насмешек.
Ах, как же нам его не хватает, Франца Йозефа Штрауса, нашего святого работодателя и поставщика острот для ныне обреченных на простой специалистов по юмору! О чем бы ни шла речь, о подмазанной со всех сторон защитной броне, раздавленном зеркальном стекле, запутанных авантюрах с разными амиго или о твоих шашнях с диктаторами по всему свету, из всего можно было состряпать сценку. Немецкое кабаре всегда оказывалось готово к услугам, когда речь шла о том, чтобы избавить от лишних хлопот бедную, угнетенную оппозицию. По твоему адресу, о человек без шеи, нам всегда приходило в голову что-нибудь эдакое. А когда недоставало пристяжных, мы припрягали рядом с тобой Венера, старого Щелкунчика. Но и Венера с его трубкой тоже больше нет.
На тебя, как и на нас всегда можно было положиться. Только один раз, в восемьдесят третьем, когда речь шла о миллиарде — для того, разумеется, чтобы помочь бедным сестрам и братьям на Востоке, мы явно все прохлопали, не оказались хитрыми мышками, когда в Розенхайме, в Гостевом доме Шпёк заседал не знающий себе равных триумвират. Здесь — компактный Штраус, там Шальк, посланец с Востока и, как дитя мира, поставщик мяса-сыра-пива Мерц посредине. Вооруженное лучшими намерениями, трио жуликов и спекулянтов выступило в пьесе, которая на правах грязной комедии всегда собирала бы полные залы. Ибо взнос из западной кассы с девятью нулями должен был пойти на пользу не только страдающему от недостатка валюты восточному государству, но и позаботиться о том, чтобы под нож гостеприимного хозяина в качестве баварского макроимпортера пошли целые стада некогда всенародных, а ныне готовых для забоя быков.
Все мнили себя в братской обстановке. Какой там «пожиратель коммунистов» или «враг капиталистов», когда под рукой сходятся все счета на мясо-сыр-пиво, а попутно вышеупомянутый Шальк может потешить своего верховного кровельщика новейшими остротами по адресу Коля, да еще из первых рук. Не сказать, чтоб там все обнимались, но уж общенемецкое подмигивание можно было наблюдать неизменно. Как оно всегда и бывает, если большие события совершаются в засекреченном месте, причем у каждого есть, что предложить: рыночные преференции, сельский шарм, боннские субпродукты, дешевые свиные полутуши, хорошо провяленные государственные тайны и прочие затхлости восьмидесятых годов, с достаточным содержанием кислоты, чтобы в случае надобности порадовать ими родные тайные службы.
Ах, какое это было, наверно, лакомство для глаз, носов и ушей, какое общенемецкое ликование. Само собой, на стол подавали мясо, сыр, пиво. Впрочем, нас к столу не приглашали. Они сами себе заменяли сатиру. Наш профессиональный звукоподражатель, которому и по сей день раскаты штраусовского голоса удаются как никому другому, вполне мог себе представить и шальковское пришептывание, а вот погонщик волов, именуемый Мерцем, и без того угадывался лишь как мастер платежеспособного языка пальцев. Вот так, без нас, кабаретистов, и состоялся миллиардный кредит. Жалко, вообще-то говоря, ибо впоследствии на нашей сцене вполне можно было бы воспроизвести все свершившееся как пролог к немецкому единству, скажем, под названием «Верная рука руку моет», но и Штраус, и Мерц старший покинули сцену еще до того, как рухнула стена, а наш старенький Шальк, чьи фирмы тайно процветают, надежно укрыт в своей вилле на Тегернзее, потому что знает куда больше, чем это было бы желательно для бело-голубого самочувствия Баварии, а потому его молчание и приравнено к золоту.
Когда заседало наше сборище ветеранов, столь же деревенское, сколь и бестолковое, говорилось так: про немецкое кабаре можно вообще забыть. Но в честь Франца Йозефа был переименован мюнхенский аэропорт, и не только потому, что кроме охотничьего удостоверения он имел еще и удостоверение летчика, но и потому, что теперь мы будем вспоминать о нем при каждом взлете и посадке. Он был многофункционален: с одной стороны, наша самая удачная мишень для острот, с другой — воплощение того риска, на который мы как осторожные избиратели и робкие кабаретисты не пожелали идти в восьмидесятом году, когда он собирался стать канцлером.