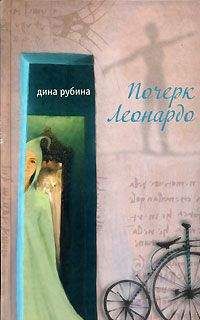Ознакомительная версия.
И надо всем этим витал пряный шоколадный дух: выбирай любой фрукт – клубнику, банан, киви, чернослив, – у тебя на глазах это макнут в горячий шоколад и выдадут тебе гигантской конфетой. А чтоб не всухую, так на то гастрономические теремки перемежаются с питейными: палатки с глинтвейном, горячим яблочным вином, пивом, рейнскими винами. И – смотря по погоде, смотря, чего хочется озябшей душе, – народ прикладывался кто к глинтвейну, кто к терпкому рейнскому, а кто к особому баварскому пиву с чудесным названием «Синий козел», которое тут варят специально к Рождеству.
В сборных деревянных теремках уже торговали всевозможными поделками из камня, дерева, кожи, керамики. Тихо крутились, свисая на нитках, блескучие елочные украшения. Из лавочки, торгующей ароматическими свечами, изливались запахи лаванды, жасмина, гвоздики и мяты, будто мостик перебросили к лавочке напротив: там торговали резными фигурками ароматического мыла с теми же запахами. Под «Jingle Bells» на карусели крутились ребятишки… И не протолкнуться было на этом празднике жизни.
Я старался улизнуть в тихие улочки. Сворачивал со Швайцерштрассе на Музейную набережную, шел мимо деликатно подсвеченных, пряничных, старинных особняков, любовался анфиладой огоньков на мостах… И по Железному мосту переходил на другой берег, где продолжался кулинарный шабаш: на огромных сковородах шипели королевские креветки, в печах отдувались эльзасские пироги. И лучший глинтвейн я выпивал на набережной, в скромной лавочке с романтическим названием «Хижина глинтвейна». Сидел там, смотрел на мост…
О снеге во Франкфурте можно только мечтать. Его нет и в помине. Каждый год все гадают, будет ли «белое Рождество».
Я сидел в облюбованной мною хижине, вспоминал московские и ленинградские снежные зимы… Своего педагога Дмитрия Федоровича Еремина. Толстый благодушный человек, первый фаготист у Мравинского, он усаживался в кресло Ауэра – в 24-й аудитории преподавал легендарный Леопольд Ауэр, – в кожаное, с высокими подлокотниками, глубокое и мягкое кресло. Утопал в нем и засыпал. Не просыпался, как бы студенты ни играли. В концерте Вебера есть одна бесконечная нота в каденции – я тянул ее, пока дыхания хватало; он так и не просыпался, все похрапывал, уютно вздыхая.
Я сидел в глинтвейновой хижине на берегу Майна, вспоминал своих консерваторских девочек, сахарно-снежную пыль на лыжне в Комарово, первый глоток сваренного на даче у сокурсницы горячего вина, благоухающего корицей и гвоздикой, – тем, что было найдено из приправ на полочке.
Теперь я знал, что этот напиток и называется глинтвейном…
Словом, я ужасно скучал без нее.
Однажды вечером она возвратилась усталая, отказалась от ужина – а я-то собирался вытащить ее в какой-нибудь приличный ресторан.
– Покажу тебе… завтра… – бормотнула она и уснула мгновенно, как ребенок. Она вообще быстро засыпала.
А назавтра повезла меня на этот заводик.
Мы спустились по металлической сварной лестнице куда-то в цеха, прошли три огромных подвальных помещения, мимо рабочих, каждого из которых она знала по имени. Какой-то Гельмут завел нас за щитовую складную ширму, где на металлическом кубе установили тот самый аттракцион: огромную многогранную коробку, сидевшую на вертикальной оси. И в каждой грани имелось овальное отверстие.
– Вот сюда, – сказала она. – Подойди к любому, лицо приблизь… плотнее… подбородок немного вытяни… так…
Я прижался лицом к отверстию в одной грани, Анна в другой – и я увидел.
Внутри простирался бесконечный лес колонн, и на каждой виднелось овальное зеркальное окошко, в котором я видел лицо – свое или Анны, в непонятной последовательности; и наши лица, чередуясь, тасуясь, кивая друг другу, уходили в бесконечную даль – границ у этого внутреннего пространства попросту не было.
Поначалу я изумился, восхитился… мне показалось это забавным и изобретательным… Потом ощутил, что не могу оторваться… отойти не могу… Все глядел, как множатся в зеркальной пустыне наши одинокие лица, в полнейшей невозможности приблизиться друг к друг у, слиться в поцелуе, в судьбе…
Мне стало страшно. Мучительная тоска сжала сердце: эта бесконечная пустынная равнина с расставленными по ней, уходящими в бескрайнюю даль, словно бы танцующими колоннами – и наши лица, молча, неотрывно глядящие на меня из обморочной дали… Вот так, подумал я вдруг, может выглядеть «тот свет»: твоя душа и душа самого близкого тебе человека, заключенные в зеркальных столбах. И вы можете лишь безмолвно – и бесконечно! – смотреть на свои тысячекратно повторенные, недостижимые отражения…
Чтобы стряхнуть наваждение, хоть слово произнести, я спросил, глядя на ее лицо в зеркальном ореоле:
– А стены коробки чем скреплены – болтами?
– Байонетные затворы, – ответило ее непостижимое зеркальное лицо. – Ну и подпружиненные фиксаторы. Все сооружение можно собрать и разобрать за десять минут.
А по пути назад она спрашивала:
– Ну как, тебе понравилось? Понравилось? – И была оживлена необычайно.
Я же хотел сказать ей: дитя мое, мое дорогое дитя, что творится в твоей голове, если ты извлекаешь оттуда подобные райские утехи?
Ночью мне приснился этот бесконечный лес танцующих колонн. Я проснулся в холодном поту и разбудил ее.
– Ты это сама придумала? – спросил я.
– Что? – недоуменно пробормотала она.
– Этот зеркальный ужас в коробочке?
– Нет… это Гудэн.
– Кто?
– Один фокусник французский… Робер Гудэн, жил в девятнадцатом веке в Блуа… Франция… Что с тобой? Который час? Дай сигарету…
Потом соизволила объяснить: Элиэзер (о, этот таинственный проклятый Элиэзер из ее детства, с которым она переписывалась зеркальным почерком, – хотел бы я на него взглянуть!) через знакомых киевлян в библиотеке Конгресса отыскал описания кое-каких изобретений Гудэна и разгадал их секрет. А она решила попробовать воплотить это здесь, в огромном аттракционе «Волшебные зеркала», но усложнила задачу, увеличила количество граней… Ну и так далее.
– Понятно, – сказал я, откинувшись на подушку.
Кстати, той ночью, поскольку уже не спалось, она рассказала мне совершенно невероятную – какие только в жизни бывают – историю спасения этого Элиэзера и его рокового близнеца.
Их недоношенными родила испуганная мать прямо в квартире, на руки своей старой украинской няньке. В ту ночь немцы обклеили весь город листовками, теми самыми, на серой оберточной бумаге: «Всем жидам города Киева…». Когда детей обмыли и мать простонала их имена – по дедам, – нянька сказала: «Кынь мэни цых дохликив, Рива, ты йих не довэзэшь».
Тогда думали не о смерти – о долгом переезде. И наутро муж на спине поволок роженицу к указанному месту сбора.
Когда старухе, и очень скоро, стало ясно, что никто не вернется, она вывезла детей в деревню к свояченице. И что придумала, старая: запеленала эти два крошечных сморщенных стручка туго, как одного ребенка, лишь две головы торчали. И так преодолела все патрули и все заграды: «От, – плакала, – внучка, дывиться, народыла урода с двома головамы… А я до сэла йду, в нас там бабка живэ, знахарка, вона якусь травку мае, то вид нэи одна голова ота била та й видвалыться…»
Все рассчитала почище любого психолога. Никто смотреть на ребенка-урода не мог, все в ужасе отворачивались, руками махали – мол, иди, иди со своим уродом, скройся с глаз… И в деревне она их подняла, выходила, а потом, после войны и до ее смерти они жили втроем в маленькой комнатке в коммуналке, на Подоле. Бабой Лизой ее звали. Такая вот баба Лиза. Оставим в стороне рассуждения о самоотверженности простого человека – бог с ним, с простым человеком, он всяким бывает… Главное – имена она им не сменила. С такими именами – как детям жилось в советском антисемитском Киеве?
Не сменила! Говорила: их мать нарекла, кто я такая, чтобы с ней, покойницей, спорить?
А у братьев потом эта нянькина присказка превратилась в семейную поговорку. «Не надейся, – говорил тот, альбинос, – не отвалится». И, как рассказывала Анна, эта белая его голова не только не отвалилась, а еще и командовала братом за милую душу.
После той ночи, неожиданно расцвеченной – в отличие от других наших ночей – разговорным жанром, я больше не предпринимал попыток разобраться в устройстве ее головы. Мне это было без надобности.
Вру! Однажды надобность возникла, и я решился потревожить ее. Уж очень хотелось помочь Профессору в его беде. Старик просто извел себя с этой «кражей века». И в самом деле – все-таки увели, да еще с такой элегантной простотой увели подлинного Страдивари! Несколько раз Мятлицкий повторял, что знает, знает, кто украл… Может, и догадывался. Тогда зачем бы ему столь взволнованно соглашаться на помощь Анны?
…зеркала отказывались вернуть тебе твое лицо, то ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью.
Ознакомительная версия.