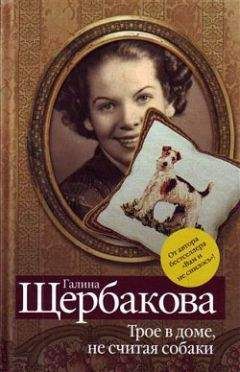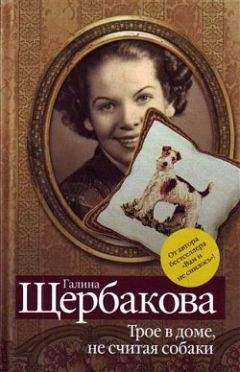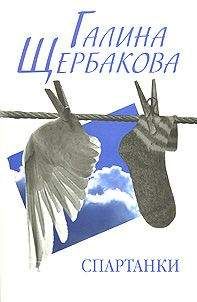Я слышу, как хлопает их входная дверь. Судя по голосу, пришел отец девочки. Разговор негромкий, неясный. Надо проследить, когда он будет уходить. И я занимаю место у глазка.
Он выносит что-то неформатное. В детском одеяле. За ним к лифту идет девчонка. Если бы я не знала, что она стройная, прямоспинная девочка, я подумала бы, что идет горбунья.
Я жду, когда она пойдет назад. Вижу, как детскими кулачками она вытирает слезы со щек. Если бы я могла, я бы кинулась к ней, потому что я понимаю: только что унесли ее собаку. Почему она умерла? Или эти две скандалистки убили ее? Но нет. Собачьего визга не было. Девочка уходила спать от Сциллы и Харибды вместе с собакой. И теперь осталась одна.
Господи! Как же они не понимают счастья иметь ноги? Как многим они обладают благодаря им. Какое это безумие – изводить друг друга здоровым и полноценным людям. Даже собака этого не выдержала. Да! Да! Именно так. Собака не выдержала их жизни, их нелюбви, безжалостности друг к другу. И мне хочется стать автомобилем, чтобы прошибить их стену и въехать – нате! Не звали? Это я пришла сказать, что вы уроды. Чтоб они уписались от страха и схватились руками, ища спасения друг в друге. Бедные вы мои люди… Собака вас не вынесла.
Девочка плачет, Шарик улетел. И я во сне видела его полет.
Я могу позвонить по телефону, я знаю их номер, и передать ей привет от улетающей собачки. Что она сделает? Закричит, заплачет, испугается?.. Поэтому я не звоню. Боюсь причинить боль. Ведь на самом деле я ищу дружбу. Какие у меня на это шансы? Не знаю, не знаю, не знаю… Боюсь, что никаких. Таким получился мир, и виноватых нет. Лучшие – собаки – уходят из него первыми. Я буду думать эту мысль, а может, все-таки позвоню девочке. Завтра. Когда-нибудь…
Все совпадения лиц и мест случайны, как и все в мире.
У меня врачебное предписание – отдышаться за городом. Мой загород – скошенный вниз, к речке, кусок сырой земли, на котором с десяток высоченных сосен, в сущности, для восприятия уже не деревьев, а стволов. Написала слова и ужаснулась второму их смыслу. Будто не знаю, что все слова у нас оборотни. Поэтому считайте, что я вам ничего не говорила о соснах. Или сказала просто – шершавые и высокие. Такие достались. Метут небо ветками-метелками. Ширк – и облака налево, ширк – направо. Только к ночи они замирают, и тогда я их люблю за совершенную графичность, которой на дух нет у подрастающих молоденьких рябин, вставших взамен унесенных ураганом орешников. Рябинки-лапочки – это живопись кистью, не без помощи пальца. Сосны же – графика. Но под всем и, в сущности, над всем царствует на моем куске земли перформанс крапивы, царицы моих угодий.
Сразу, когда я появилась на своем скосе, как бы из глубины самой земли возник голый до пояса, а пьяный целиком мужичок с косой и сказал:
– Ну, хозяйка, черканем крапиву? Сто пятьдесят – и нету заразы, а потом я тебе ее сграбаю в кучу, а осенью запалю.
Так здесь делают все. Месяц торчат из земли толстые корни крапивы, их ничем не взять. Банки, пакеты, мячи, руки-ноги кукол являют открывшемуся глазу подкрапивный мир, который, не стыдясь самого себя, стыдит нас за неопрятность жизни, за неуважение к земле и траве, и некоторые, особо устыдившиеся, мечтают о бульдозере, чтоб снять верхнюю землю до самого последнего крапивного корня, а сверху сыпануть гравий. Это особый тип покорителя лесов, полей и рек. Бульдозерный. Есть и другой, который после бульдозера намысливает привезти землю откуда-нибудь, где даже палки плодоносят, сыпануть ее щедро, метелочкой размести и потом целое лето снимать с веток огурцы, клубнику и прочие яства.
Справедливости ради надо сказать, что оба типа мечтателей – бульдозерные и плодожорные – ленивы. И ни гравия, ни жирной земли не будет у них никогда. Тут можно сказать, что лень русского человека носит космистский характер, и человек уже и не виноват. Его желания – булавочные уколы той субстанции, которая его окружает. И не больно, и сразу заживает любая идея что-то там…
Но вернемся к моменту скашивания крапивы. Это волнительный, как сказали бы во МХАТе, процесс, и в природе возникает большое беспокойство. Подскакивают заполошенные лягушки, всхлопатываются перепуганные ежики, злые змейки мстительно исчезают под крыльцом, а беззлобный уж растягивается, как удав, на главной дорожке, пугая маленьких детей.
Я это уже проходила. И верещала от ужа, и ловила ежиков, и выкапывала из земли утерянный сто лет тому назад чей-то пинг-понговый шарик… представила возникновение такой разрухи, услышала собственную тахикардию и прогнала мужичка.
– Пусть растет! – сказала я.
И поступили мудро. За ночь крапива выросла сантиметров на десять и стала шелестеть мне в окно. С тех пор у меня с ней отношения. Когда с бельевой веревки слетает непришпиленное посудное полотенце и обморочно падает на крапиву, я уже не беру в руки длинную палку для снятия паутины, чтоб спасти полотенце. Я иду по крапиве сама. Она обжигает меня сразу, ей это надо сделать, чтоб доподлинно знать, я ли это. Убедившись во мне, крапива замирает. И я действительно прохожу по пояс в крапиве, как Иисус по морю аки посуху, и мне в ней хорошо и покойно.
Во мне взыграла ботаника, и я решила рассказать про крапиву, про ее жизнь и про плохое отношение к ней людей. Писать о человеческой неблагодарности получается легко и нетрудно. Слова выстраиваются в очередь, чтоб быть явленными, их тысячи про человека и крапиву-природу, где человек – свинья, хотя в чем он не свинья? В отношениях с кем и чем он – человек – царствен и красив? Ламинарии (попросту морская капуста) просто спят и видят, чтоб у человека отсохли руки и ноги и он прекратил свою так называемую полезную деятельность. Вот когда вздохнет океан, ярче засверкают звезды и станет хорошо земле и воде. Про ламинарии мне рассказывала крапива, когда наши отношения стали столь доверительными, что она мне призналась в заговоре грибов против людей, а одуванчиков – непосредственно против детей.
За детей ей от меня досталось, и я какое-то время с ней вообще не разговаривала, но тут вокруг меня началась очередная бурная полезная деятельность людей и к чертовой матери полетели в щепки две молоденькие березы, кривоватая, но вполне живая сосна и целый выводок бузины. Человек по соседству решил строить себе баню.
– У него нет ванны? – спросила меня внучка, оплакивая смерть березы.
– Есть! – сказала я.
– Тогда зачем ему баня? – внучка размазывает слезы по всей мордахе, но она уже не плачет, она остановилась перед загадкой жизни, которую я ей должна объяснить.
И я рассказываю ей сказку о роли бани в жизни русского человека, почти всегда живущего в холоде. Про то, как баня лечит и как после нее выздоравливают, и пока у меня все идет гладко. Но взятый сказочный мотив сбивается на фальшь. Я помню, как после войны у нас построили общую баню и как однажды по недосмотру бабушки я туда попала. И бабушка поставила меня в таз и вручную перемыла заново. Потому как еще неизвестно, какую болезнь я могла принести из общей помывочной.
Конечно, я не рассказываю это внучке, я ей про то – как прыгают в снег разгоряченные люди, которые потом возвращаются в жар и бьют себя вениками, поливая при этом квасом раскаленную печку.
И тут справедливо сказать: не говори о том, чего не знаешь. Не жарилась, не прыгала… Это верно. Но в бане бывала, учась в университете, и шайку брала, и не знала, куда девать номерок от шкафчика, но главным было чувство срама, не личного, а какого-то надмирного срама наготы и беззащитности.
– Мы будем ходить в эту баню? – спрашивает внучка.
– Нет, – говорю я. – Она же не наша.
– Слава богу! – кричит внучка.
Нет, что-то у меня не получилось с романтикой плескания квасом.
Но не про срам же говорить? Он был у меня от личных комплексов, что худа и угловата, а понятия, что это хорошо, тогда еще не было. Большие и мокрые женщины были королевами, от них шел жар и дух.
Внучка же убежала, и я услышала, как она рассказывала товарищам по детству про погибшие деревья, «хотя у человека есть ванна». Детский народ говорит, что раз так, то они отомстят и спалят баню. За ту березу.
Бить тревогу я не стала – бани еще не было, лето шло к концу, но я поняла, что на следующий год у меня будут другие интересные темы: про «красных петухов». Пожар Москвы 1812 года и про то, что мстительность – это плохое человеческое качество.
Пока же только готовится место для бани. Еще даже не завезен материал. Мало ли что случится? В России нельзя загадывать на завтра, а уж на год!
Но однажды на участок будущей стройки въехал грузовик, и с него была снята очень странная, огромная, запеленутая в полиэтилен вещь. С моего любопытного крылечка было хорошо видно трудное стягивание вещи с кузова. Работяги кряхтели и матерились, не зная, как ухватить это нечто. В конце концов они бухнули это на землю, а потом подтащили и уложили это на освобожденную для бани территорию. Штука встала точнехонько, мужики на нее сели и стали выпивать, потому что таков первый закон динамики жизни русского человека: сделал – выпей. Разговор их до меня долетал отрывочно и казался бессмысленным. Мужики говорили, что такое дешевле спалить, чем с ним возиться, другие же не соглашались, ссылаясь на старое время, когда такое делали о-го-го как! Старое, оно, мол, еще сто лет простоит. Сошлись на том, что дело покажет.