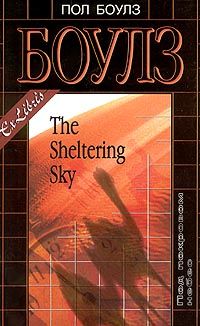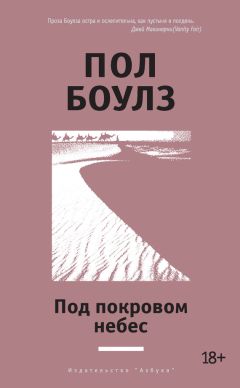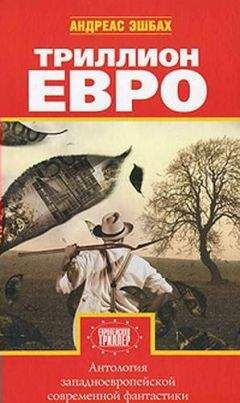— Скажите мадам, что я сейчас немного расстроена и поэтому не очень хочу есть, — сказала она Дауд Зозефу, — но что я с удовольствием поем попозже у себя в комнате. Немного хлеба будет достаточно.
— Ну, конечно. Конечно, — сказал он.
Когда она ушла к себе в комнату, мадам Дауд Зозеф принесла ей тарелку с горкой нарезанного кусочками хлеба. Кит поблагодарила ее и пожелала спокойной ночи, но ее хозяйка не собиралась уходить, ясно давая понять, что ее интересует содержимое дорожной сумки. Кит была решительно настроена не открывать ее перед ней; тысячефранковые купюры моментально стали бы в Сбе легендой. Она сделала вид, что не понимает, похлопала по сумке, кивнула и засмеялась. Затем снова повернулась к тарелке с хлебом и еще раз поблагодарила ее. Но мадам Дауд Зозеф продолжала не сводить глаз с саквояжа. Из сада донеслось кудахтанье и хлопанье крыльев. Дауд Зозеф появился с откормленной курицей, которую опустил на пол в центре комнаты.
— От вредных тварей, — объяснил он, указывая на курицу.
— Тварей? — эхом повторила Кит.
— Если на полу покажется скорпион — ам! Она его съест!
— А-а! — Она нарочито зевнула.
— Я знаю, мадам нервничает. В компании с нашей подружкой ей будет спокойнее.
— Меня так клонит в сон, — сказала она, — что меня уже ничто не побеспокоит.
Они торжественно пожали друг другу руки. Дауд Зозеф вытолкнул свою жену из комнаты и прикрыл дверь. Курица поскреблась с минуту в пыли, потом вспорхнула на приступку умывальника и утихомирилась. Кит села на кровать, глядя на неровное пламя лампы; комната была полна дыма. Она не испытывала страха — лишь непреодолимое желание убрать подальше все эти нелепые декорации, забыть о них. Поднявшись, она постояла, приложив ухо к двери, и услышала шум голосов и далекие глухие удары. Она надела пиджак, набила карманы хлебом и снова села ждать.
Время от времени она глубоко вздыхала. Один раз встала прикрутить фитиль лампы. Когда стрелки ее часов показали десять, она снова подошла к двери и прислушалась. Она открыла ее: двор мерцал в отраженном свете луны. Вернувшись внутрь, она подняла бурнус Таннера и бросила его на кровать. От поднявшегося вихря пыли она едва не чихнула. Она взяла свою сумочку и саквояж и вышла из комнаты, не забыв осторожно прикрыть за собой дверь. Проходя через внутренние покои, она обо что-то споткнулась и чуть было не потеряла равновесие. Она медленно вошла в лавку и на ощупь обогнула прилавок, стараясь ничего не задеть. У двери был простой засов, который поддался с трудом; под конец он лязгнул с тяжелым металлическим звуком. Она распахнула дверь и вышла.
Луна светила нестерпимо ярко: идти в ее свете по белой улице было все равно что идти под солнцем. «Кто угодно может меня увидеть». Но вокруг никого не было.
Она пошла прямиком к окраине, где к дворам домов подступали разбросанные островки оазиса. Внизу, в раскинувшейся черной чаще, образованной вершинами пальм, продолжали бить барабаны. Звук долетал со стороны ксары, негритянской деревни в центре оазиса.
Она свернула в длинный, прямой переулок, огражденный высокими стенами, за которыми шелестели пальмы и журчала вода. Иногда ей попадались белые вязанки сухих пальмовых веток, сложенные у стены; каждый раз ей мерещилось, что это человек сидит в лунном свете. Переулок повернул в сторону барабанного боя и привел ее на площадь, сплошь изрезанную маленькими каналами и акведуками, парадоксальным образом разбегавшимися в разных направлениях; это напомнило ей крайне запутанную игрушечную железную дорогу. К оазису отсюда вело несколько тропинок. Она выбрала самую узкую, которая, как ей показалось, должна была огибать деревню, а не вести к ней, и пошла между стен вперед. Тропа виляла то вправо, то влево.
Звук барабанов усилился: она уже слышала голоса, повторяющие ритмичный рефрен, неизменно один и тот же. То были голоса мужчин, множество голосов, целый хор. Время от времени, добравшись до густой тени, она останавливалась и вслушивалась — загадочная улыбка блуждала у нее на губах.
Сумка становилась все тяжелее. Она все чаще перекладывала ее из одной руки в другую. Но она не хотела прерываться на отдых. В любой миг она готова была развернуться и пойти в обратную сторону на поиск другого переулка, в случае если этот вдруг неожиданно выведет ее прямо в центр ксары. Временами ей казалось, что музыка где-то неподалеку, но определить где именно было трудно из-за постоянно петляющих стен и высившихся между ними деревьев. Иногда она раздавалась чуть ли не рядом, как если бы Кит отделяла от нее одна лишь стена да какая-нибудь сотня метров сада, а иногда удалялась, почти полностью заглушенная сухим шелестом ветра в пальмовых листьях.
Меж тем журчание влаги со всех сторон возымело незаметно для нее самой свое действие: внезапно она почувствовала сухость. Холодный свет луны и едва уловимое движенье теней, обступавших ее, потрудились над тем, чтобы развеять это чувство, и тем не менее ей показалось, что полная уверенность придет к ней только тогда, когда вокруг нее сомкнется вода. Неожиданно перед ней возник широкий пролом в стене, выходящий в сад; грациозные стволы пальм уносились ввысь по краям широкого пруда. Она стояла, неотрывно глядя на темную неподвижную гладь воды; в ту же секунду она осознала всю невозможность ответить на вопрос, когда пришла к ней мысль искупаться: до того, как она увидела пруд, или после. Да и какая разница: перед ней был пруд. Она пролезла в щель в обвалившейся стене и, прежде чем преодолеть кучу мусора, лежавшую у нее на пути, поставила сумочку на землю. Очутившись в саду, она вдруг неожиданно для самой себя стала снимать одежду. Она удивилась, что ее действия зашли настолько далеко, что сознание уже не поспевает за ними. Каждое движение, которое она совершала, казалось идеальным выражением легкости и изящества. «Берегись, — предостерег ее внутренний голос. — Будь осторожна». Но это был тот же голос, что посылал ей сигналы опасности, когда она слишком много пила. Прислушиваться к нему сейчас не имело смысла. «Привычка, — подумала она. — Как только я чувствую прилив счастья, я начинаю сопротивляться, вместо того чтобы отдаться ему». Она сбросила сандалии и, нагая, стояла в тени, чувствуя, как внутри нее рождается незнакомая сила. Она оглядела тихий сад, и у нее создалось впечатление, что впервые с детских лет она видит предметы ясно. Перед ней вдруг во всей полноте предстала жизнь, она была в ее гуще, а не смотрела на нее из окна. Чувство величия, нахлынувшее от ощущения себя частью ее мощи и великолепия, — то было знакомое чувство, но в последний раз она испытывала его давно, много лет назад. Она выступила из тени на лунный свет и медленно пошла к середине пруда. Дно было скользким от глины; на середине вода дошла ей до талии. Когда она полностью погрузилась в воду, к ней пришла мысль: «Я никогда больше не буду истеричкой». Такое напряжение, такая степень тревоги за собственную персону, почувствовала она, больше не будут отравлять ее жизнь.
Она купалась в свое удовольствие; прикосновение к коже холодной воды пробудило в ней желание петь. Каждый раз, когда она нагибалась набрать в ладони воды, следовал взрыв бессловесного пения. Внезапно она остановилась и прислушалась. Она больше не слышала барабаны — одни лишь капли воды, стекавшие с ее тела в пруд. Она закончила купаться в молчании; паводок ликования пошел на убыль; но жизнь не ушла из нее. «Остаться бы здесь», — громко прошептала она, направляясь к берегу. Она использовала в качестве полотенца пиджак, подпрыгивая от холода, пока не вытерлась насухо. Одеваясь, она бесшумно насвистывала, то и дело прерываясь и на секунду прислушиваясь, проверяя, слышны ли еще голоса и не забили ли снова барабаны. У нее над головой, в верхушках деревьев, прошелся ветер, а где-то поблизости едва слышно струилась вода. Больше ничего. И вдруг она заподозрила что-то неладное, как если бы у нее за спиной что-то произошло, как если бы время сыграло с ней шутку: сама того не сознавая, она провела в пруду несколько часов, а не минут. Празднования в ксаре подошли к концу, люди разошлись, а она даже не заметила, как прекратился бой барабанов! Подобный абсурд иногда случается. Она наклонилась поднять свои наручные часы с камня, на который их положила, чтобы не замочить. Их там не было; она не могла проверить время. Она недолго поискала, заранее уверенная, что никогда уже их не найдет: исчезновение часов было частью трюка. Немало не огорчившись, она вернулась к стене, взяла свой саквояж, перекинула пиджак через руку и громко сказала, обращаясь к саду: «Думаешь, мне это важно?» И, прежде чем выбраться наружу через пролом в стене, рассмеялась.
Она стремительно шагала вперед, целиком отдавшись тому чувству непрерывного восторга, которое вновь обрела. Она никогда не сомневалась в его существовании, стоило лишь проникнуть за поверхность вещей, просто когда-то, давным-давно, она смирилась с тем, что им нельзя обладать как естественным состоянием жизни. Теперь же, обретя вновь эту радость бытия, она сказала себе, что больше никогда уже с ней не расстанется, чего бы ей это ни стоило. Она достала из кармана своего пиджака кусок хлеба и с жадностью его съела.