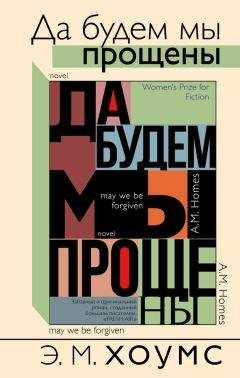– А у вас, мистер, есть дети?
– Пока нет – но будут. Я уже положил глаз на одну девушку, которую хочу взять в жены. Только она об этом еще не знает.
Женщина улыбается.
– Весь комплект могу вам отдать за сорок долларов.
Она кивает:
– Это приличная сумма.
– Естественно, – соглашается он. – Это же инвестиция в знания на всю жизнь.
– У вас случайно утюга не найдется?
– Случайно найдется… – Он секунду ищет утюг. – Вот, паровой электрический. – Грейди аккуратно вынимает утюг, показывает женщине. – Я один такой подарил маме, и она не нахвалится.
– И сколько такой стоит?
– Шесть долларов сорок пять центов.
– А конфетки есть? – спрашивает она застенчиво.
Он смеется:
– Не думайте, что вы первая, кто о них спрашивает. Есть мятные шарики, лимонные леденцы, красная и черная лакрица, а если хотите что-то поизысканнее – есть пара коробок шоколадных «Си».
– Я когда-то одну пробовала, – говорит она. – Рай на земле.
– Шоколадная дорога к звездам, – соглашается он.
Она смеется и лезет в карман платья.
– Давайте возьму у вас утюг – и конфет на пятьдесят центов.
Грейди работает «от двери к двери» с девяти утра до пяти вечера. Если муж дома, Грейди демонстративно заинтересован всем, что глава семьи готов ему показать (это всегда какая-нибудь штука, которую тот мастерит у себя в сарае или в подвале). Грейди даже как-то грустно: все, что нужно этому типу, – чтобы его похлопали по плечу и назвали молодцом. Он слушает, разрешает собеседнику говорить ровно сколько нужно, потом, прежде чем подавать свой мяч, чуть отрезвляет хозяина воспоминанием, что никогда не видел отца в костюме – только в гробу. А потом начинает продавать. Если выходит меньше, чем на пятьдесят долларов, то это провал. Успех – если удается всучить энциклопедию для детей и коробку конфет для жены, а перед праздниками у него еще запас игрушечных грузовиков с настоящими работающими фарами и куклы, умеющие открывать и закрывать глаза, – для девочек.
Хороший день для Уилсона Грейди заканчивается в забегаловке. Если не считать пирогов матери, он никогда не ел ничего лучшего, чем просунутая в окошко еда под витриной будочки с неновой вывеской, умятая под чтение очередной буквы из энциклопедии. Приятная компания к ужину.
– Сначала чашка похлебки, а потом ваше фирменное.
Тарелка с двумя толстыми ломтями мясного рулета, хорошо приготовленная зеленая фасоль, теплый хлеб и половник пюре, горкой сложенного на тарелке с кратером коричневой подливки, все это так прекрасно, – что плакать хочется.
Он любит Америку.
Ночью задувает ветер и температура падает. И пусть день был хорош, но Уилсон Грейди чертовски мерзнет. У него есть в машине пара старых шерстяных одеял да еще подушка, принадлежавшая в детстве брату. Он паркуется в переулке и устраивается на ночь. Его редко кто замечает, а если заметят – он извиняется и уезжает, вспоминая официантку, у которой передник завязан на талии, как пояс верности.
И скрывается на темной дороге.
Я дочитываю едва ли не в слезах: это та сторона личности Никсона, которой я никогда раньше ни в чем не видел, но всегда подозревал, что она есть. В этом Никсоне есть человечность, есть безнадежная грусть, а это ранний Никсон, не президент, но такой, каким Никсон себя знает. Этот Никсон – человек с бурным честолюбием, идеализированный, пусть и типовой, рядовой человек, колесящий по стране и готовящий почву для грядущего великого момента. Уилсон Грейди – человек, который чего-то хочет, но не очень понимает, как этого добиться.
* * *
Я распаковываю ящик, выкладываю материал в ряды стопок, осторожно, чтобы сохранить порядок, – но желая добраться до середины, до конца, понять общий смысл материала, форму вещей.
Примерно в середине стопки я нахожу короткую вещь. Мое внимание привлекает, что Никсон много раз на верхних двух дюймах страницы написал грубую бранную фразу. Рассказ, состоящий почти полностью из ругательств, безделушка на тему о том, как на человека напала мебель его собственного офиса. Он приезжает поздно, потому что поезд опоздал. А еще и дождь. Туфли промокли. Носки тоже. Он входит в офис, снимает туфли и носки и кладет на радиатор, ставит мокрый кожаный портфель (замечая, что тот пахнет хлевом), достает важные бумаги и садится в кресло. Оно тут же начинает его кружить, кружить, а потом вываливает на пол. Он ставит кресло обратно и наклоняется включить настольную лампу, а та вдруг бьет его током. Он берет ручку – та течет и заливает пальцы, и когда он наконец, злой как черт, ищет платок, чтобы вытереться, и захлопывает ящик для карандашей, тот ему прищемляет пальцы.
Боже мой.
Что за черт?
Ах, чтоб тебя!
Потом я нахожу еще одну историю. Сверху в скобках примечание: «Без имен, потому что с этим человеком я однажды пил».
Квартира на Авеню
Артур приходит домой поздно, приняв на пару стаканов больше, чем стоило бы. Жену он застает в спальне, она раздевается. Он смотрит и думает, что она еще очень хорошо выглядит, сексуальна, и настроение у него сменяется на игривое, но как только она начинает говорить, все его надежды…
– Я тебе могу быть чем-нибудь полезна, Артур?
– Нет, ничем.
– Ну, хорошо. Я подумала, глядя, как ты там стоишь, будто ты ждешь чего-то.
– Хочешь знать, как на самом деле, Бланш? Самая что ни на есть чистая правда… она в том, что я никогда тебя не любил. Женился на тебе, считая, что мне это на пользу.
– Я это и так знала, Артур.
– И если бы я не думал, что мне это дорого обойдется во многих смыслах, меня бы уже давно здесь не было.
– Ты не единственный, у кого здесь такие мысли.
– Когда ты последний раз меня хотела? В том смысле, в котором женщина должна хотеть своего мужчину.
– Секс я никогда не любила, и ты это знаешь, – отвечает она, глядя на него в зеркало трельяжа.
– Именно! – обращается он к ее отражению. – А ты понимаешь, насколько мне от этого плохо? В смысле, что мне-то секс нравится, и приятно было бы иногда заниматься этим с женщиной, которой это не противно.
– Насколько я понимаю, ты определенно нашел места, где можно «заниматься этим».
– Ну ведь всегда этим кончается, разве нет?
– Разве нет? – переспрашивает она. – Кстати, Артур, насчет того, от чего тебе плохо: отношения с секретаршей босса вряд ли принесут тебе много хорошего.
– Мужчины и женщины смотрят на эти вопросы по-разному.
– Не сомневаюсь, – говорит она.
Он подходит к ней ближе, к подзеркальнику, за которым она сидит, намазывая лицо кремом.
– Мазни и меня, – просит он, почти умоляет. Она не проявляет интереса:
– Ты вполне и сам можешь.
Она встает и выходит. Он пытается ее остановить, но не везет ему, и рука попадает ей по лицу, будто при ударе наотмашь. Такое уже бывало.
Она не реагирует – как будто ударилась о неодушевленный предмет. Именно это отсутствие реакции, чего-нибудь человеческого, подталкивает его повторить, уже намеренно. Сжав кулак, он наносит удар, попадает в щеку.
Она не падает – стоит, едва покачнувшись.
– На сегодня хватит? – спрашивает она и сплевывает. На ковер падает одинокий зуб.
Говорить больше не о чем. Он выходит в коридор, берет из шкафа одеяло, которое использовалось летом для пикников в парке, и устраивается на диване. Один, в окружении прикроватных столиков, ламп и кресла, он всхлипывает. По лицу катятся тяжелые слезы, он говорит сам с собой, гулко что-то бормочет и замолкает лишь тогда, когда сует в рот большой палец. И сосет, пока не приходит сон.
В полдень приходит Ванда и несколько сдувает мое восторженное состояние.
– Перерыв на ленч, – говорит она.
– Да нет, спасибо, – отвечаю я. – Лучше я поработаю.
– У нас перерыв на ленч, – говорит она, и я на нее взглядываю. – Некому будет вас курировать, так что вам придется уйти на час. Материалы можете оставить как есть, мы их здесь запрем.
Я спускаюсь с Вандой на лифте. Мы выходим, я смотрю на нее, и она на меня – озабоченным взглядом.
– Вам нужны деньги на ленч? – спрашивает она.
– Нет-нет, у меня их хватает. Просто документа с собой не было. Не беспокойтесь, спасибо. Вы мне тут какое-нибудь заведение не порекомендуете?
– Есть салатный бар в магазине напротив и рестораны вдоль улицы, – отвечает она с облегчением.