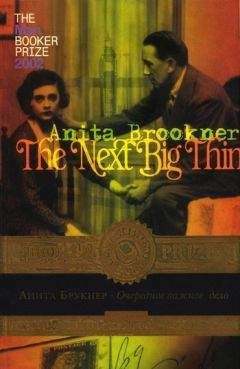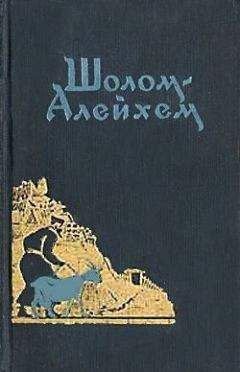— Тебе пора идти, — говорит Фредди. — Скоро будут разносить чай. Я обещал помыть после этого посуду.
«Увидимся через неделю», — говорили они друг другу, словно в этом была какая-то необходимость. На пороге они обнимались. В этом объятии присутствовали даже чувства изначально любящих друг друга братьев. На этом визит заканчивался.
Юлиус и сам считал, что его родителям не под силу та обязанность, которую он каждую неделю брал на себя. Родители (и Фредди об этом тоже знал) были чересчур боязливы, чтобы открыто встретить крушение своих надежд, и потому упорствовали в иллюзии, что все идет нормально, и начисто отрицали факты. Такая тактика помогала им выжить, и они отчаянно за нее цеплялись. Все бремя легло на плечи младшего сына, и Юлиус стал опекуном всех троих, не сознавая сам, как называется его роль. И все же на обратном пути к остановке его каждый раз охватывало чувство грусти, и окружающий ландшафт сразу терял краски. Однажды на этом пути трагедия жизни Фредди внезапно открылась ему во всей своей полноте — и до конца было еще далеко: он скатывался от всеми лелеемого юного дарования до уровня прислуги непрерывно и без помех. А ведь до сих пор Юлиус, по молодости своей, верил, что какая-то высшая сила остановит этот необратимый процесс. Он принял без возражений тот факт, что Фредди больше не слушает музыку, но пребывал в убеждении, что искусство должно удерживать человека от такого падения. Искусство, несомненно, являлось ключом к двери в более прекрасный мир, однако Фредди расторг помолвку с музыкой, словно их связь была всего лишь флиртом, который так и не перерос в зрелые отношения. Его мать по-прежнему слушала музыку по радио и отбивала такт рукой, да и в магазине, если уж на то пошло, их окружала музыка, но Юлиусу и его отцу не было дела до музыки. Им было дело до Фредди и до его мятежа, который закончился почти желанным поражением. А может, в этом поражении и было освобождение? Не обрел ли Фредди таким неестественным образом душевный покой? Он словно бы отбросил прежнюю жизнь и вместе с нею все, что ее тогда наполняло. Миссис Уолтерс была теперь его родительницей, и Юлиус не видел смысла уговаривать его вернуться домой во всех смыслах этого слова. «Моя мать» и «мой отец» стали почти мифическими персонажами, никак не относящимися к настоящему, а сам Юлиус был слишком незначительной фигурой, чтобы пробудить большой интерес Фредди. Наверное, и не стоило тревожить его отголосками событий большого мира, но Юлиуса беспокоило, что произойдет, если — и когда — умрут его родители. Вызовет ли это какое-нибудь пробуждение, катаклизм похороненных чувств? Этого надо будет постараться всеми силами не допустить, поскольку Фредди мог сломаться снова. А уж что случится, если Фредди суждено умереть прежде, чем родителям, об этом даже подумать было невозможно. Крушение двух других хрупких жизней — трех, если считать его собственную, было бы полным. Юлиус не сомневался, что за смертью брата стремительно последуют одна за другой новые смерти, и его потребность облегчать жизнь, цель, которой он все еще был верен, предстанет в своем истинном виде: желания, тщетного желания, чтобы его усилия были увенчаны пусть не славой, так хотя бы сознанием благородства.
Через пятьдесят лет, спустя целую жизнь, Герц пришел к мысли, что одаренность Фредди, хоть и феноменальная, была нехорошего свойства. Она была сродни аутизму, а не подлинной страсти. Зрители завороженно глядели, как по лицу Фредди, сменяясь, пробегали оттенки чувств, словно видели в действии работу подсознания. Он казался совершенно непричастным к тому, что переживал и чувствовал, как будто эти переживания происходили в другом измерении, не соприкасающемся с повседневностью. Публика на него ходила охотно, но так, как стремятся посмотреть диковинку, ярмарочное представление. Возвращение к повседневности, надо думать, было в высшей степени болезненным. Неудивительно, что ему пришлось бросить играть, подавлять тошноту, переезжать с места на место. Неудивительно, что он сломался. И как только его болезнь была названа, бремя словно бы стало легче, как будто больше уже никто ничего не станет от него ожидать. Даже мать, в общем-то, об этом знала, хотя по своим соображениям изо всех сил поддерживала фикцию, что он выздоравливает. Несмотря на всю кошмарность своих поездок к брату, Юлиус видел, что поделать ничего нельзя, и уезжал из Брайтона не как человек, выполнивший свой долг, а скорее как принявший участие в церемонии, на которой не было церемониймейстера. Эмоции, которые испытывал он сам, хотя и чрезвычайно сильные, относились к нему самому, будто он был как те жертвы Французской революции, которых привязывали к трупам и бросали в реку. Им пожертвовали в беспомощном служении тому, кто во многих отношениях уже ушел из этой жизни.
Герц спросил себя, неужели все старики начинают все понимать, когда уже ничего нельзя исправить? Он спросил себя, размышляют ли, как он, те люди, что идут по улице мимо него, о том, чего не воротишь? В таких раздумьях мало проку; они являются результатом течения времени, а потому применения им нет. Как еще он мог повлиять даже теперь на те грустные субботы, кроме того, что признать себя их наследником? Как бы он ни старался, он не мог отделаться от ощущения, что должен быть сейчас в другом месте, что должен не делать покупки у «Маркса и Спенсера», но покорно брести по пустой дороге, подняв воротник для защиты от морского ветра. И только когда суббота подходила к концу, когда он сидел против бесспорно своего персонального телевизора, в своей доказуемо персональной квартире, он мог расслабиться. Но даже тогда он был почти готов снова выйти, чтобы довести миссис Франк до автобусной остановки и вновь отложить на потом свою жизнь, в тщетной надежде, что кто-то ее для него восстановит.
Брат умер в приюте, рядом с ним был лишь он один. Как он и надеялся, родители умерли раньше Фредди. Юлиус все не мог решить, сказать ли Фредди об их смерти, и наконец сказал. Фредди был в тот миг уже очень слаб, сознание то покидало его, то снова возвращалось, но он, кажется, понял. Словно объединенные семейной скорбью, они взялись за руки. В тот миг, когда их руки похолодели в унисон, Юлиус понял, что жизнь Фредди оборвалась. Он и при этом не казался недовольным. Черты его приобрели то странное отдаленное очарование, какое проявлялось, когда он играл. Похоже было, что сама смерть являла свое присутствие еще в те далекие дни его успеха. Только на этот раз ясно было, что ему совсем не страшно.
Позже в тот же день Герц позвонил в центр садоводства, где теперь работала его бывшая жена, и попросил позвать миссис Бернс. После развода Джози вернула себе девичью фамилию, но продолжала именоваться как замужняя женщина. Герц находил это совершенно естественным; он был согласен с тем, что брак, даже более не существующий, прибавляет достоинства женщине, а женщины нынче больше беспокоятся, кажется, именно о своем статусе. Кроме того, по всем статьям она была дама, и ее вполне устраивал этот статус, возможно даже в большей степени, чем когда она действительно была замужем. К тому же в ее возрасте достоинство особенно ценится, а в положении одинокой женщины, как бы там пропаганда ни утверждала обратное, все же есть что-то грустное. Иное дело — вдова. Он подозревал, что Джози очень подошла бы роль вдовы, но она все еще была слишком сильно к нему привязана, чтобы закрепиться в этом, с ее точки зрения, идеальном образе. Он знал, что развод их разделил; он также знал, что они останутся друзьями. На самом деле они всегда были друзьями, больше даже, чем мужем и женой. Их брак длился всего два с половиной года, и они расстались без вражды. Ему по-прежнему иногда хотелось ее видеть, с той ровной теплотой, которая стала обычной для них обоих. Время от времени они встречались, без неуместного нетерпения с чьей-либо стороны, а со спокойствием, которое им приносила неизменность характера таких встреч. Они ничего не потеряли; они остались больше чем знакомыми, фактически — союзниками, только менее церемонными, поскольку когда-то имели хоть и кратковременную, но насыщенную физическую связь.
— Джози? Это Юлиус. Я хотел спросить — может, пообедаем вместе где-нибудь на следующей неделе?
— С удовольствием. Мне удобнее всего в понедельник. По понедельникам у меня меньше дел.
— Значит, в следующий понедельник. «Шикиз», в двенадцать сорок пять.
— Значит, увидимся. До свидания, Юлиус.
Ему нравился ее деловитый тон по телефону. Джози никогда не виляла и была из тех женщин, которые все говорят в лоб, инстинктивно и почти не обидно. В каком-то смысле это и привело к их разводу. Он подавил застаревшее чувство стыда, вспомнив, как пытался отучить ее от откровенности. За себя он не переживал; вот за других он переживал чересчур.
Герц со вздохом подошел к зеркалу и внимательно оглядел себя, как будто они должны были встретиться сейчас же. Она считала его красивым, «видным», как она выражалась, и, возможно, даже сейчас думала так же. Ему в ней больше всего нравилась ее физическая заурядность, хотя она была миловидна и могла бы сделать из себя что-то большее. Очевидно, она считала, что это то ли не нужно, то ли невозможно. Так или иначе, она всегда выглядела практично, разве только чуть неопрятно, что всегда вызывало в нем стремление ее прибрать, сделать ей стильную прическу, слегка подкрасить ей губы и даже надушить ее духами, которые он с удовольствием ей покупал. Но духи она осмеивала и продолжала ограничиваться энергичным умыванием по утрам. Он находил ее естественный запах возбуждающим, хотя в глубине души был совершенно разочарован тем, что она нисколько не напоминала тех изнеженных женщин, к которым он привык с юности, женщин с накрашенными ногтями и лицами. Его тетушка Анна, например, всегда изысканно одевалась и делала укладку, а если от постоянных усилий она становилась слегка раздраженной, то он мирился и с этим. Инстинктивно он предпочитал женщин, которые что-то из себя строили, были капризны, даже жеманны, хотя и знал, что такое поведение вышло из моды. Джози, со своими густыми волосами и ненакрашенным лицом, которое он любил, не смогла затмить образ, который он, так или иначе, находил более доступным для своего понимания.