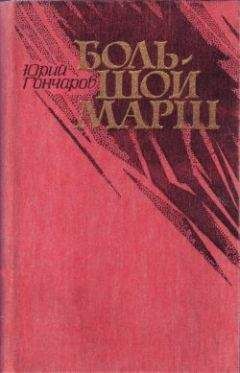Покашливая, он шелестел бумажкой, скручивая новую папироску. Своих детей у него не было, и он даже считал это за благо, потому что был убежден, что все нынешние дети растут балованными, ни к чему серьезному не годными, к родителям и вообще старшим относятся без уважения, не ценят их заботы о себе.
– Все вам в тягость, ни к чему не приучены, ото всего отлыниваете, – заговорил он укоризненно, со скрипучестью в голосе; было видно, что и порядок этих слов, и их интонация ему привычны, сложились у него давно и накрепко. – Сколько вам всего дадено, понастроили вам и школы, и техникумы, и институты, а вам даже учиться лень. Шалайничаете, футболы гоняете, абы зря время провесть. А как же вот мы в девятнадцатом году? Красноармейская пайка – двести грамм суррогатного хлеба, кусаешь его – а он остьями рот до крови дерет. На ногах лапти, шинелишка без ремня, без хлястика, дырка на дырке, голое тело сквозит, что есть она на тебе, что нет – один черт. А морозы ломили за все за тридцать. И ничего – терпели, сносили и стужу, и голод. И на постах стояли сколько надо, и фронт держали, и в наступление шли, да еще и белякам всыпали как! Бегали от нас, только пятки ихние сверкали…
В девятнадцатом году Чурсин, как нестроевой, служил при штабе красноармейского полка писарем. Время действительно было крутое, голодное. Однако Чурсин, находясь при штабе, получал все-таки побольше, чем двести граммов, и ходил не в лаптях и не в шинели без ремня и хлястика. Но давно уже, принимаясь вспоминать свое прошлое, особенно если он делал это для укора молодым, Чурсин видел его в героическом свете, именно таким, как сейчас рассказал; правда почти бессознательно была спутана в нем с вымыслом, с тем, что происходило в эти годы с другими на глазах у Чурсина, и самому себе он казался очень заслуженным, много пострадавшим за революцию и ради победы в гражданской войне.
Сравнивать времена минувшие и нынешние – не в пользу тех, кто моложе и принадлежит иному времени, иным традициям, вкусам, – было для Чурсина излюбленным занятием, чем-то вроде лекарства на больной нерв души: этими разговорами он, маленький, незаметный, затертый в общем многолюдстве служащий, приподнимал себя над людьми, разговоры эти укрепляли в нем необходимое каждому человеку чувство своей значимости и убеждение в правильности своей жизни, в правильности своих взглядов, мнений, принципов. Чурсин рассуждал долго, и рассуждал бы еще дольше, если бы Игорь не перестал ему возражать, догадавшись, что это бесполезно, – все равно Чурсина ни в чем не убедишь и не переспоришь.
Луна то меркла в облачной пелене, то загоралась ярко, почти слепяще, и вместе с нею мерк и высветлялся погруженный в немоту окружающий пустырь. Он выглядел каким-то иным, новым, безграничным на все стороны, таящим в себе загадочную, недобрую приуготовленность; его молчание, тишина воспринимались не как обычное ночное молчание, ночной сон, а как тревожная затаенность перед тем, как чему-то начаться. Теперь все представлялось абсолютно возможным, абсолютно вероятным. Игорь подумал о городе – невидимом, неслышимом, но существующем во тьме и тишине совсем рядом. Большой город – с большими домами, множеством улиц, магазинами, кинотеатрами, школами, заводами и фабриками, стадионами, парками, железнодорожными вокзалами, массою жителей… И они, трое, в этом поле… Они берегут его покой, его безопасность. Они – его надежная стража, его недремлющие часовые… «Любимый город может спать спокойно»… Игорю стало даже как-то знобко от вдруг прихлынувшей взволнованности, от своей почетной, такой ответственной роли…
Ленька, продрогнув на глине, перебрался на трубу. Чтоб не выделяться на ней, он растянулся на бетоне во всю длину тела, лицом вверх; ночная бабочка села ему на лоб; тихо ругнувшись, он смахнул ее, почесался, поворочался, опять укладываясь поудобней. Чурсина тоже не было слышно, никаких признаков жизни от него не исходило – так он сидел тихо и неподвижно. В вырезе трубы чернел его размытый силуэт и торчали наружу худые, с острыми коленями ноги, поблескивая пряжками на сандалиях.
Мысли Игоря текли без всякого порядка, разорванно. Он вспомнил пионерский лагерь, в которой ездил два года назад, летом, между седьмым и восьмым классами, как жгли костер на поляне и смуглая босоногая девочка, наряженная в бусы и ленты, плясала «цыганочку», как однажды ночью в палатку забралась бродячая собака в поисках пищи, а кто-то, не разобравшись спросонья, крикнул: «Волк!» – и поднялась паника, все стали метаться, перевернули ведро с водой, обрушили шест, подпиравший палатку, и она рухнула, а ребята перемешались под брезентом, спутались в клубок и долго барахтались, не находя, как выбраться наружу.
Это было веселое воспоминание, у Игоря даже появилась на лице непроизвольная улыбка. Но потянулись другие картины – из того, что было всего месяц назад. Как было тогда беспечально и еще все совершенно по-детски, какая была тогда совсем иная, совсем по-другому устроенная жизнь. Тогда у Игоря и всех его сверстников существовала одна забота – экзамены, чтобы перевели в десятый класс. Всего больше пугала письменная по алгебре. Этот предмет преподавала сухая, безжалостная Анна Алексеевна, и все бегали друг к другу на квартиры, сверяли решения: кто-то раздобыл задачи и уверял, что именно они будут даны на экзамене. Письменная по алгебре была последней. Сдавшие свои тетради, ожидая в коридоре товарищей, говорили уже о лете, кто куда поедет, Игорь с отцом собирались в заводской лагерь рыболовов, у них уже были заготовлены удочки, разные снасти, куплены два одеяла, примус, складной нож с тремя лезвиями, штопором и открывалкой для консервных банок. А на другой день началась война… А еще через день Игорь провожал отца, уже в командирской форме, пахнущего незнакомо и чуждо – кожей наплечных ремней, армейским сукном, дегтярной смазкой сапог, и тот нож, которым они собирались вскрывать банки у костра, чистить картошку и рыбу, отец положил в походный армейский вещевой мешок, вместе с катушкой ниток, мыльницей, новой зубной щеткой, тоже приготовленными для рыбалки…
* * *
Часов никто из троих не имел, но ход времени подсказывал, что полночь давно позади, уже около двух.
Все оставалось по-прежнему: ровная голубоватая лунная седина лежала вокруг на пустынном пространстве, наплывы ветерка изредка трогали стеблинки трав, наклоняя их и тут же отпуская. Изменилось только положение луны: пройдя зенит, она далеко передвинулась по небосводу в сторону запада, и теперь тень уже не покрывала глиняный вал, он весь был отчетливо высвечен на всем видимом протяжении, чернела одна траншея – провально, страшно.
Игорь не дремал и даже не чувствовал ни малейшего желания спать, глаза его были все время открыты и ясны, но от глубокой, однотонной, усыпляющей тишины и постоянства обстановки в сознании вплывало что-то вязкое, тягучее, притупляющее. У него уже не было того внимания и восприятия к окружающему, как вначале.
Потом он ненадолго смежил ресницы, утомленный холодным сиянием лунного света, его однообразным, скучным, надоевшим блеском на гранях глиняных комков, на стеблинках и метелках сухих трав, и, когда открыл глаза, в той стороне, куда, чернея, уходила траншея, увидел невысоко в небе светлую точку, не ярче звезды, неспешно опускающуюся к горизонту. Она быстро теряла силу своего свечения и, не достигнув земли, погасла через две-три секунды после того, как ее заметил Игорь. И летела, и погасла она совсем так, как гаснет огненный метеор ракеты, истративший в скоротечном интенсивном горении вложенную в него яркость и бессильным бледным светляком возвращающийся на землю.
Сердце Игоря замерло, тут же стало расти, разбухать в груди, толкнулось изнутри в ребра и застучало гулко, сильно, с увеличенными паузами, вмиг взгорячив во всем теле кровь. Игоря будто подбросило с земли – так мгновенно оказался он на ногах. Он впился глазами в горизонт. Светлячок сгорел начисто, не оставив следа. Там, где он сверкал секунду назад, была ровная синеватая чернота неба.
– Ракета! Ленька, слышишь, ракета! Вставайте, ракета! – засуетился Игорь, охваченный разом и жаром, и ознобом.
Ленька – он все-таки задремал, потому что на взволнованный голос Игоря вскинулся с трубы слишком уж стремительно, ошалело, – вертел головой, оглядываясь, ища ракету.
– Что? Где? Ракета? Где? – вскочил на ноги тоже дремавший и пробужденный Чурсин, суетливо, в передавшемся ему волнении, подобно Леньке поворачиваясь в разные стороны.
– Вон там, там! – протягивая руку, показывал Игорь. – Вот только сейчас горела, вон в том месте, вон в том!
По инструкции, данной Яценко, теперь полагалось действовать так: звать на помощь соседние пикеты и бежать с ними туда, откуда пущена ракета, – окружать ракетчика и брать его в плен.
Чурсин, путаясь в карманах пиджака, не попадая сразу в них руками, вытащил футбольную сирену, которой его на этот случай снабдили, и посвистел – в одну сторону и в другую.