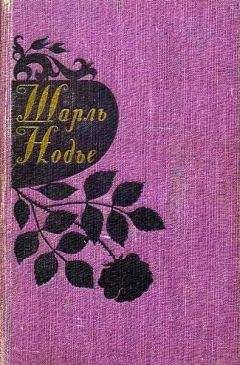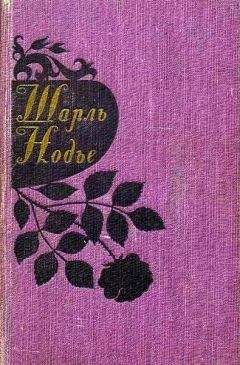Едва ли не главное из этих качеств – способность видеть сны. В повести довольно скоро стирается грань между тем, что происходит с Мишелем на самом деле, и тем, что ему снится: «По правде говоря, в мир странный и выдуманный я возвращался, лишь проснувшись, и если все люди бросают взгляд, исполненный удивления и насмешки, на сны, посетившие их прошедшей ночью, то я не без смущения обращал такой взгляд на сны начинающегося дня, а затем предавался им вполне, как того неумолимо требовала моя судьба». «Я пошел домой, чтобы лечь спать, а может быть, я уже спал, ибо, по правде говоря, впечатления вчерашнего дня нередко путались у меня со сновидениями, и я никогда особенно не старался отделить одни от других, ибо не мог взять в толк, какие из них разумнее и лучше. Мне, впрочем, кажется, что в конце концов большой разницы между ними нет.» (Наст, изд., с. 149, 141).
Романтическое двоемирие, когда герой проживает две параллельные жизни – и в мире реальном, и в мире вымышленном, и наяву, и во сне, – придумал не Нодье. И в этом его ближайший предшественник – также Гофман. Но Нодье был предрасположен к созданию героя, живущего в двух мирах – дневном (явь) и ночном (сон), – собственным психическим складом. Автор «Феи Хлебных Крошек» был подвержен кошмарам и потому особенно внимательно изучал все истории о вампирах, волках-оборотнях, лунатиках, привидениях и проч., как фольклорные (он имел возможность познакомиться с южнославянским фольклором в бытность свою в Любляне-Лайбахе), так и литературные (баллада Гёте «Коринфская невеста», 1797, поэма Байрона «Гяур», 1813).
С одной стороны, сон у Нодье предстает как фактор благотворный и даже, так сказать, культурообразующий. По Нодье, все откровения свыше, легшие в основу религии и морали, люди получали во сне: «Именно жизнь во сне породила, должно быть, все великие основы социального устройства и навеяла народам те единственные мысли, что сделали их роль в истории возвышенной. Без всемогущего действия силы воображения, средоточие которой – сон, любовь не что иное, как животный инстинкт, а свобода не что иное, как неистовство дикаря».[29] Сон может служить убежищем от печальной яви, приносить счастье (вся любовная жизнь Мишеля протекает во сне).
Но, с другой стороны, сон у Нодье – это почти всегда и что-то страшное, связанное с кошмарными видениями. Революционные казни, увиденные в детстве, оставили свой след. Из произведения в произведение (и, очевидно, из ночи в ночь) повторялся у Нодье жуткий сон: его ведут на плаху. В повести «Смарра» (1821) описание такого сна особенно яркое и поистине уникальное: человек видит во сне свою собственную казнь, а потом его отрубленная голова взлетает над плахой и парит над нею. «Наверх вели четырнадцать ступенек; я поднялся на помост, сел и обвел взором толпу; я хотел отыскать на чьем-нибудь лице дружеское расположение, различить в осторожном, боязливом взгляде, как бы говорящем мне последнее «прости», проблеск надежды или сожаления. ‹…› Немного успокоившись, я подставил шею под остро наточенное, холодное как лед, лезвие сабли, которую занес надо мною служитель смерти. Никогда еще столь сильная дрожь не пробирала человеческое существо; она была пронзительна, словно последний поцелуй, запечатлеваемый горячкой на шее умирающего, остра, словно стальной клинок, всепожирающа, словно расплавленный свинец. Из этого тревожного состояния меня вывело потрясение ужаснейшее: голова моя слетела с плеч… она покатилась, подскакивая, по отвратительному подножию эшафота и, готовая стать достоянием детей, прелестных юных уроженцев Лариссы, обожающих играть головами мертвецов, зацепилась за выступ помоста и яростно впилась в него зубами, которым агония сообщает прочность железа. Оттуда я вновь взглянул на толпу: люди расходились по домам, молчаливые, но довольные. Только что они наблюдали смерть человека ‹…› я с прежним упорством впивался зубами в дерево, напитанное моей свежей кровью, и с облегчением чувствовал, как медленно вырастают на моей искалеченной шее мрачные крыла Смерти. Все летучие мыши, порождения сумрака, ласково уговаривали меня: «Взмахни крылами!..» – и я силился взметнуть неведомыми лохмотьями, едва способными удержать меня в воздухе. Внезапно, однако, успокоительная иллюзия посетила меня. Десять раз ударялся я о гробовые своды той почти безжизненной перепонкой, что влачилась за мною, словно гибкая змея в прибрежном песке; десять раз вновь пытался взлететь, раздвигая влажный туман. Как черен и холоден он был! И как печальны пустынные царства тьмы! Наконец я поднялся на высоту самых высоких зданий и принялся кружить над одиноким помостом, помостом, которому мои умирающие уста успели подарить мимолетную улыбку и прощальный поцелуй».[30]
В «Фее Хлебных Крошек» к теме казни примешиваются и публицистические оттенки: протест против неправедного суда, обижающего беззащитного маленького человека (сходным образом против бездушного законодательства незадолго до этого выступил Гюго в «Последнем дне приговоренного к смерти», 1829), но очевидно, что Нодье двигали мотивы не только социальные, но и глубоко личные.
Любопытно, что у Нодье это был излюбленный мотив не только письменных, но и устных рассказов; Жерар де Нерваль вспоминал в посвящении Александру Дюма сборника «Дочери огня»: «Вы знаете, с какой убежденностью наш старый друг Нодье рассказывал, как его гильотинировали во время Революции; рассказ звучал настолько достоверно, что оставалось непонятным одно: как сумел он приладить на место свою голову».[31] О том же писал другой французский литератор, хорошо знавший Нодье, Жюль Жанен: «Помню, как однажды я спросил у него: «Странно, неужели вы забыли, что были казнены в тот же день, что и королева Франции?» Он ничего не ответил и глубоко задумался, словно пытаясь припомнить, не постигла ли его в самом деле сия славная участь?»[32] Отсюда тяга Нодье к «неистовой» литературе и даже к шуткам на «потустороннюю» тему: если верить Дюма, Нодье прислал ему в 1832 г. записку. «Дорогой Дюма, я только что прочел в газете, что 6 июня, в 3 часа утра, вас расстреляли. Благоволите сообщить, может ли это помещать вам прийти завтра на обед в Арсенал в нашем обычном кругу. Ваш добрый друг, который будет счастлив услышать от вас новости потустороннего мира» (записка была напечатана при жизни Нодье!).[33] Характерно, что именно Нодье сделал героем одной из своих повестей Казота, которому традиция приписывала предсказание французской революции с ее казнями.
* * *
В статье «О некоторых явлениях, связанных со сном» Нодье не только анализирует отдельные сновидения (как приятные, так и страшные), но и рассуждает о значении снов в истории человечества, причем понятие «сон» употребляется здесь как синоним «фантазии» или «поэзии». Народами и отдельными людьми, пишет Нодье, управляют два принципа: один, зиждущийся на воображении, а другой – материальный, причем существовать они могут лишь вместе: «В стране, над которой абсолютную власть приобрело бы воображение, вовсе не существовало бы положительной цивилизации, а ведь цивилизации без положительного элемента быть не может. Но в стране, где положительный принцип ставится выше всех мнений и даже всех заблуждений – если в мире есть мнение, не являющееся заблуждением, – человеку не остается ничего другого, кроме как отказаться от звания человека и с громким несмолкаемым хохотом убежать в леса, ибо подобное общество не достойно иного прощания».[34]
В «Фее Хлебных Крошек» Нодье не отдает предпочтения ни одному из двух принципов. Основа фантастики у Нодье – неопределенность, возможность трактовать происходящее и как психологически правдоподобное (фантазии героя или даже плод его душевной болезни), и как совершенно ирреальное (плод риторского вымысла).[35] Эта двойственность «Феи» создается, в частности, ее архитектоникой: через всю повесть тянутся повторяющиеся мотивы, толкуемые но в реальном, то в сказочном плане: костыль Феи – вполне реальный, но сделанный из ветхозаветного ливанского кедра – превращается затем в волшебную палочку, которая помогает отыскать крошечный домик у стен Арсенала; насмешливая фраза гризетки из Гринока: «Он женится после того, как найдет клевер о четырех лепестках или мандрагору, которая поет!» (что-то вроде нашего «когда рак свистнет») – в финале оборачивается действительными поисками этой вполне фантастической мандрагоры.
Двойственен и финал повести: нельзя сказать наверняка, чем все кончилось – остался ли Мишель в лечебнице, где безжалостные врачи лечат его от безумия страшными процедурами, или вознесся в небеса, к шпилю католической церкви, с поющей мандрагорой в руках. Мишель в финале «женится на царице Савской и становится повелителем семи планет» – но это происходит в «чужой» сказке, в несуществующей книге, которую у рассказчика вдобавок крадут цыгане, иными словами, счастье Мишеля – тоже своего рода сновидение, фикция. Это вообще любимая стилистическая фигура Нодье. Типичная для него фраза (взятая из статьи 1835 г. «Библиография безумцев») звучит так: «Оставим эту забаву нашим рассудительным потомкам – если, конечно, у нас будут потомки и среди них найдутся рассудительные люди»;[36] в такой фразе конец опровергает начало и автор ничего не утверждает до конца и всерьез. По этой модели построен и финал «Феи Хлебных Крошек», оставляющий читателя в недоумении относительно подлинности описанных событий и развязки рассказанной истории: о судьбе Мишеля повествователь узнает из брошюрки, купленной у разносчика, – но ее украли цыгане; «Надеюсь, Даниэль, – сказал я, просыпаясь, – что цыганам книжка понравится». – «Наверняка понравится… – отвечал Даниэль, – если они ее прочтут».