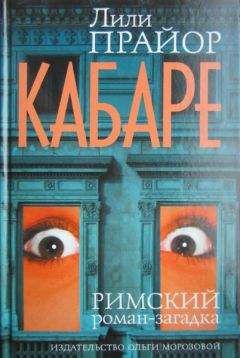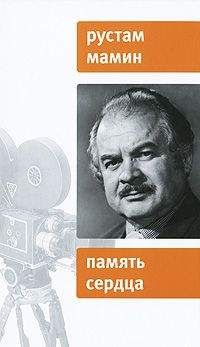Старик перестал кричать. В результате аварии он не пострадал, но тут же лег на дорогу перед машиной и зачем-то умер. Его дочь рухнула, как подкошенная, изо рта пошла пена. Двигатель машины тоже умер. Потом раздался несильный, но весьма меткий взрыв, и языки пламени начали лизать красную краску.
Фьямма выбралась из машины. Она оказалась невредима, если не считать кровавой ссадины на лбу, точно над переносицей. Тогда я закрыла глаза, и стало темно.
Ко всеобщему удивлению, мама умерла не сразу, хотя, пожалуй, для всех было бы лучше, если бы она скончалась мгновенно — там, в благоухающем саду, а не в больнице, где не было ни красоты, ни ароматов, ни цветов, ни солнечного света. Только стерильная серость, запах антисептика, полумрак и тишина. Мама, врученная заботам своего брата Бирилло и его безразмерной жены Нинфы, задержалась лишь на несколько часов, чтобы поговорить с нами, а может, о чем-то предупредить перед уходом. Я очнулась от того, что кто-то хлопал меня по щекам. Это была Фьямма. На ней была та же розовая футболка и те же шорты, что и во время аварии, хотя прошла целая вечность. В больничной палате она смотрелась нелепо, как будто солнечный день на побережье вдруг вторгся в важные дела, связанные со смертью, болезнью и страданием. Ссадина на ее лбу полыхала, как горящие угли, а когда она нагнулась ко мне, я заметила следы прилипшей жвачки.
— Фреда, мама зовет. Пойдем.
Она стянула одеяло и осмотрела мое побитое тело, прикидывая, как доставить меня до места. Я ничего не чувствовала, но правая нога была сломана и загипсована от бедра до лодыжки. Шея оказалась травмирована ремнем безопасности и упакована в гипсовый воротник. Голову, которой я во время аварии несколько раз ударилась, обмотали бинтами. Череп немножко сплюснулся. Счастье, что не пострадал мозг, хотя потом у меня частенько двоилось в глазах.
— Давай-ка вставай, — не очень уверенно предложила Фьямма и попыталась пересадить меня в инвалидное кресло, которое без разрешения позаимствовала в соседней геронтологической палате. Не обращая внимания на мои стоны, она тащила меня вверх и вниз по лестницам и коридорам, пока мы не добрались до комнаты, в которой нас ждала мама.
Мы ворвались в палату с жутким грохотом (Фьямма яростно и бесстрашно толкала кресло изо всех сил) и очень удивили престарелого священника, который как раз соборовал нашу маму. Он осенил всех нас крестным знамением, глубокомысленно почесал затылок и удалился, прихрамывая.
Я не могла поверить, что тело на кровати — это моя мама. Она была вся обмотана бинтами, как Человек-невидимка. Ей оставили только щелочки для рта, носа и глаз. Сквозь них она посмотрела на меня с любовью, смешанной с болью, грустью, жалостью и прощальным смирением.
— Девочки мои, — прошептала она. Голос ее пострадал не меньше, чем тело. — Вы должны быть смелыми и заботиться друг о друге. — Она протянула к нам забинтованные руки. — Скоро я вас покину, но мне еще нужно многое вам сказать.
Она замолчала — говорить ей было очень трудно. А я испугалась, что она уже умерла, так тихо она лежала. Я даже не могла бы сказать, дышит она или нет. Руки у нее были невесомые и гибкие. И я не нашла ничего лучше как заплакать.
Но мама заговорила снова — тихо и очень быстро, как будто боялась не успеть:
— Фьямма, не вздумай переживать из-за того, что случилось. Ты не виновата. Тебе просто была сдана такая карта. Тебя ждет блестящая карьера, но замуж ты выйдешь за дурака. Будь счастлива. Моя Фредина, ты у меня самая ранимая, и именно за тебя я боюсь больше всего. Тебя тоже ждет успех в работе, но судьба у тебя несчастливая. В далеком будущем я вижу чревовещателя, но ничего хорошего из этого… — Тут мама замолчала, хотя и не договорила. Фраза беспомощно повисла в воздухе, и мы молча ждали продолжения. Не знаю, кто из нас первой поняла, что мамы больше нет.
В душе у меня все сжалось, но внешне я была спокойна и тиха. За спиной открылась и захлопнулась дверь. Пахнуло свежим воздухом. Кажется, вошли какие-то люди, но тут же ушли. Я сжала мамину руку, мысленно умоляя не покидать меня. Мне слишком рано становиться сиротой. Я бы почувствовала, если бы она боролась за жизнь на волосок от смерти. Но она не боролась.
Потом Фьямма сказала:
— Наверное, тебе лучше вернуться в палату.
— Нет еще, — ответила я. — Хочу видеть ее лицо.
— Не надо.
— Надо. Помоги мне.
Фьямма помогла мне встать, а сама вышла покурить в коридор. Раньше она не курила. Приобретает дурные привычки.
— Хочу запомнить ее такой, какой она была, — объяснила сестра. А я хотела знать все.
Я начала осторожно разматывать бинты, начав с маминой макушки, и отбрасывала их в сторону, как луковичную кожуру. Я увидела мамино лицо, но это было совсем не то лицо, которое я знала.
Медсестры, врачи и дядюшка Бирилло пытались не пустить меня на похороны. Все говорили, что я еще слишком слаба, но я им показала, на что способна. Даже сбежала из больницы, чтобы навестить маму в похоронной конторе Помпи. Заставила Фьямму отвезти меня туда. Внутрь она не заходила, поэтому синьора Доротея Помпи, которая владела конторой вместе со своим мужем Порцио, сама отвезла мое кресло в часовню, где покоилась мама.
То, как изменилась мама было сродни чуду. Синьора Помпи оказалась мастером своего дела. Она вернула маме ее красоту. Я глазам своим не поверила. Лицо опять было целое и совсем не похожее на маску. Глаза закрыты, как будто мама спит, и накладные ресницы на месте. Губы точеные, пухлые и розовые. Волоски от пальмового ствола которые раньше покрывали мамино лицо и напоминали отвратительную бороденку, аккуратно убраны. Волосы мамы, почти целиком растерянные во время полета, возвращены на место и завиты в искусные кудряшки, игриво рассыпавшиеся по подушке и плечам.
Я испытала ни с чем не сравнимое облегчение: теперь мама сойдет в могилу с гордо поднятой головой. Я была безгранично признательна синьоре Помпи за то, что она помогла маме вновь обрести чувство собственного достоинства. Чуть позже, в приемной, синьора угостила меня лимонадом с медовым печеньем. Это было первое, что я съела после аварии.
Оказавшись на улице, я увидела Фьямму на противоположном углу улицы в компании мальчишек на motorini, неразговорчивых и опасных на вид. Вечером того дня, когда случилась авария, сестра бросила своего надежного парня Руперто, студента-медика.
— У нас с тобой нет будущего, — заявила она, перед тем как запрыгнуть на заднее сиденье мотороллера безмозглого Норберто, который всем, даже своей семье, был известен как самый тупой парень нашего района.
Похороны состоялись через несколько дней в Санта Гризельде-делла-Панча, маленькой церквушке, куда ходили в основном художники и эстрадные артисты. Уступив моим мольбам и угрозам, дядя Бирилло пришел за мной в больницу и принес купленный тетушкой Нинфой траурный наряд — платье с широким поясом и рукавами-буфами и берет с гигантским помпоном. Каждый год на день рождения и Рождество она дарила мне детскую одежду и никак не могла привыкнуть к тому, что мне уже шестнадцать, а не шесть.
И вот, наряженную под малолетку, меня усадили на заднее сиденье микроавтобуса для путешествия через весь город. Я очень удивилась, когда увидела, что светит солнце, по улицам ходят люди и магазины работают, как всегда. Торговцы скрипучими голосами нахваливают свой товар: «рисовые оладьи», «артишоки», «лук», «куриная печенка — свежая-свежая». Прямо перед нашей машиной, парами и держась за руки, перешли улицу детишки в фартучках. Проезжали велосипеды, звенели колокольчики на упряжках пони, жужжали легковушки и грузовики. В канаве валялась раздавленная крыса. В воздухе висел серный запах булькающего в котле гудрона, сточных вод и гниющей помойки. Привычно ворковали голуби. Все было в порядке. Вот только мама умерла.
На улице перед chiesa[5] толпился народ. Все расступились, пропуская нас внутрь. На моем лице заиграли фотовспышки. Теперь оно появится в вечерних газетах. Я до сих пор храню газетные вырезки в прозрачной папочке, вместе с некрологами. На фотографиях я получилась с открытым ртом, закрытыми глазами и головой, поникшей под тяжестью гигантского берета. Короче, выгляжу полной идиоткой.
На отпевание мы приехали последними, и все присутствовавшие оглянулись, чтобы посмотреть, как мы входим в дверь: впереди загипсованная нога, следом я, а в хвосте — дядя Бирилло. От ладана у меня засвербило в носу, полились сопли. Помню, внутри было столько народу, что вполне хватило бы на футбольный стадион. Конечно, всем мест не досталось, и некоторым пришлось стоять в приделах и в притворе. Мы протиснулись вперед, и тут же запел хор. Казалось, он будет петь вечно. Почти все женщины смотрели на меня и плакали. Тушь черными ручейками стекала по их щекам.