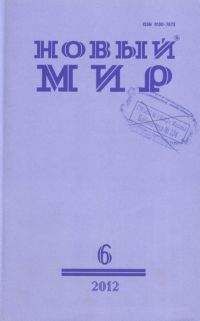Лев, двигая царственными брылами, сделал продавщице дневную выручку. Сгребли водку-тушенку с прилавка и пошли все к Петрофану.
Правнук нес цветастую торбу с реквизитом. Закатное солнце на миг поселилось в его серьге, затем — в серьгах Карины, огляделось — в чем бы еще поработать, и зажгло окна домов.
Рядом бежала еще собачка в шкуре на два размера больше. Ее звали Наволочка.
Пришли, врезали.
С полатей доносился сладковатый запах душицы, а на полу младший правнук Петрофана собирал сложный пазл.
— Что это у тебя? — спросила Карина.
— Сеятель.
Старший правнук подвинул Петрофану тушенку и пошептался с ним, затем в двух словах рассказал о плане спасения его глаз:
— Мама пазл этот — Ван Гога — прислала. Она в Голландии — нянчит буржуйского ребенка… операцию оплатить.
Старик Сергеич, который в этой компании играл роль Щукаря, высыпал:
— И поздней осенью бабочке хочется жить.
— Мы вам поможем, Петр Федорович, — сказал Лев. — Для того и приехали. Я вхожу в состав благотворительного общества «Жизнь — Игра», помогаем пожилым артистам.
— Из какой вы семьи? — Карина протянула кукольнику серебристую коробочку диктофона.
— Ну… рассказывалась семейная история. Отец у красных был мобилизован писарем в контору… Пришли белые и послали за ним. Он сказал: «Им я нужен, пусть сами ко мне и идут». Офицер прибежал, кипит — шашку наголо, и вдруг вышла бабушка. Сейчас вы будете смеяться — она была дворянка. Увидев ее, офицер спрятал шашку и сказал: «Как мы все огрубели с этой гражданской войной!»
В это время народ уже пытался от пития перейти к пению. Получалось мимо нот, но почему-то хотелось слушать.
В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится…
— Учились ли вы кукольному делу, Петр Федорович?
— В детстве… у нас ссыльный один вел кружок, говорил: «Ты пересели часть себя в перчаточную куклу. И она должна двигаться поперек жизни».
— И что — выступали тогда?
— Ходили по сельским школам с марионетками, была еще одна тростевая кукла… А какие он умел показывать фокусы, ел горящую паклю!
— Лексей Лексеич, — вспомнил имя учителя старик Сергеич, который не без выгоды был здесь за Щукаря, и уронил в себя маленькую стопку — за упокой.
— Да вот Сергеич был тоже в этом кружке.
— Но он не стал кукольником. А вы стали! Как это случилось?
— Я пришел из армии — учитель уже умер. И мне был сон, что хожу и куклами развлекаю детей. Проснулся, подумал: какая глупость — не до кукол, надо жениться.
— Но вы все же стали кукольником…
— Это сначала всю жизнь проработал учителем труда… И вот вещий сон увидел…
— Тот же самый?
— Почти. В двухтысячном году, в феврале. Голос говорит: «У куклы нет мимики, вся сила ее в маске — подними правую руку» (я во сне поднимаю), «иди» (я иду)… Возьмите вот мои записи, там ход моих жизненных мыслей. Берите, я слепой, мне уже они ни к чему… Дистанция еще одолела… то есть дистония…
Записи из амбарной книги.
«Немножко жив. Надеюсь снова подняться до кукол»…
«Сосед по палате все пел: „Девушки-голубушки, у вас четыре губушки…“ Замутило меня. Но он все время под капельницей с температурой, ничего ему не говорю».
«Если не справлюсь с рулением самим собой, вылечу в кювет существования».
«В реанимации лежу, а мозг-то все слышит. Хирург сказал: к утру умрет. А мой мозг: хрен я вам умру!»
…Последние записи в амбарной книге были помечены осенним числом: пятое сентября:
«Вчера попал под ливень, реки текли по дорогам, а вечером начались судороги на ногах. Хожу — дергаюсь. Вот так будет дергаться Петрушка, когда убегает от Мента.
Устал. Зато чувство жизни».
И вдруг Лев Воробьев себя обнаружил таким: стоит над поющим «Снился мне сад в подвенечном уборе» народом и говорит:
— Я понимаю, я все понимаю, вам весь этот юмор животный на экране надоел, и начинается что-то вроде самозарождения искусства в лице маэстро Фролова.
Дочь Петрофана подала на завтрак морковь, тушенную в сметане. Это была жилистая северная морковь, которая возросла, наливаясь соками, навстречу всем непогодам. Долго тушилась эта морковь, но все еще оставалась стойкой, как орех.
Дочь покачала головой и сказала:
— Ты весь высох. Гербарий!
И глаза заволокло влагой — об отце.
Когда она вышла поить корову, Петр Федорович протер сухие глаза:
— Чужие дети растут быстро, а свои не вырастают никогда… Она вся в мать — раньше я видел — коралловая помада, какие-то сравнения всегда… в молодости фразы изо рта жены казались мне вышивками…
— А зять ваш?
— Он воевал в Афгане, приехал в отпуск по ранению, никому не говорит, куда ранили. Из военкомата, однако, просочилась информация: нож в задницу моджахед ему сунул… рубил дрова и наклонился, а то бы в спину. Смеялись: покажи, герой, афганскую рану! А потом его убили там… поехали на охоту, говорят, на бронетранспортере, горючка кончилась… пока по рации вызвали, пока ждали… «духи» их на куски порезали…
Петрофан устал и усмолк. Лев вложил ему в руку горючее — полсотни грамм.
— А ваша жена?
— Наталиша умерла. Но не буду говорить — как будто оса в сердце жалит. И из-за угла подмигивает тоска. И тогда я взялся за кукол.
— А вы говорили: учитель приснился.
— В тот момент и приснился.
Карина наконец-то приготовила вопрос момента истины, который вскрывает человека, как консервную банку:
— Петр Федорович! Значит, хорошо, что Сталин ссылал? Вы у ссыльного научились кукольному ремеслу.
Кукольник понурился. Он понимал: бесконечная глупость часто проделывает туннели в будущее, в апокалипсис, и оттуда сыплются черные вопросы.
Глина древнего лица его треснула морщинами ответа:
— Готов отдать это счастье кукольной игры, только чтобы палача Сталина никогда не было.
Захорошевший Лев Воробьев поплыл улыбкой:
— Восьмидесятилетнее сверкание! — он повернулся к Карине: — Помните, как Ахматова назвала Жданова? Кровавая кукла палача!
Карина (она была за рулем) решительно сказала:
— Ну давайте собираться.
После операции Петр Федорович несколько дней гостил у Льва Воробьева и даже побывал в кукольном театре на «Кандиде». Счастливые глаза Петрофана, так долго находившиеся в разлуке с реальностью, заново открывали ее, полную красоты лиц.
Потом он слушал передачу Карины о себе, о куклах, об успешной операции на оба глаза.
Радиослушатели дозванивались и указывали:
— Это нетипичная история, зачем вы нам ее рассказываете!
— Только нетипичные истории движут миром, — отвечал гость передачи отец Игорь, настоятель храма Георгия Победоносца.
В день отъезда Петра Федоровича налетели журналисты городских газет. Ах, ох, прямо так вот с куклами вы ездите по селам, а сколько берете за представление, ах, ох, неужели правда, что символическую плату? В наше время и с куклами?!
— Ну почему вы удивляетесь моим куклам? Посмотрите, вон мужики идут, выпили, руки болтаются, как у тростевых кукол…
Долгопят Елена. Старый дом. Рассказ
Вроде бы она входит в дом, где родилась. И никто не замечает, что она старая, неловкая, что ей сорок шесть лет, и волосы крашеные, и морщины уже в углах губ. Ей сорок шесть, а они все из прошлого, из времени, когда она была девочкой, ребенком, который в ней живет, но никому не видим.
Они все сидят за столом, и она садится, и начинается их обычный разговор, обычный для того прошлого, которое, когда оглянешься на свою жизнь, кажется самым важным. Единственно верным — так и хочется сказать. Самое удивительное, они не видят, что она не девочка, говорят с ней как с девочкой, что-то об уроках, о косичках, что надо переплести. Видят косички, которых нет. Она пробует волосы — нет косичек.
На отрывном календаре 9 сентября 1975 года, брату пятнадцать лет, ей одиннадцать, матери тридцать шесть, а она, настоящая, сегодняшняя, старше матери на десять. Брат говорит, что в девятый класс не пойдет, что они с Витькой уедут в Горький, поступят в техникум. Она помнит, что брата уже нет на свете. И матери нет. А она есть. Берет чашку и отпивает чай, который мать ей только что налила. Дверь хлопает в терраске. Мать удивляется: кто там? Брат встает со словами: я посмотрю. Она просыпается.
Где-то. В какой-то утробе, пещере, в темной норе. От хлопка двери.
За ветровым стеклом горит фонарь, освещает тротуар, крыльцо ночного магазина. Она в автобусе. Ночь, пассажиры спят, водителя нет, он вышел только что, хлопнул дверью, и она проснулась в душном автобусном чреве. На черном асфальте золотой лист с ржавыми краями, хотя золото не ржавеет, золото вечно, оно не стареет, время ничего с ним не может сделать, золотое кольцо у нее на пальце как будто выпало из времени, она стареет, а кольцо нет, и если ее с ним похоронят, она растворится в земле, а оно нет. Какой-то есть в этом жуткий смысл для человека.