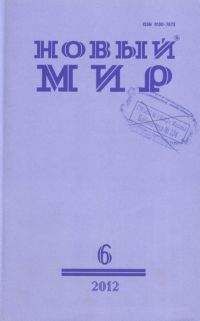В городе было тихо. Начинался и почти тут же смолкал осенний дождь. Она расспросила кассиров на вокзале, уборщицу. Не помнили ее мальчика. Добралась до старого парка. Стучала в калитки по Физкультурной улице, окраинной, почти деревенской. Собаки лаяли, пахло печным дымом и яблоками, антоновкой. Показывала фотографию, расспрашивала. Не помнили, не знали. В проданном Галиной Сергеевной доме зудела дрель, рабочие начали ремонт.
Не помнили, не знали. Один из рабочих посоветовал зайти в фотомастерскую — размножить снимок, расклеить. Она поблагодарила. Оклеила стены, столбы. Отовсюду он теперь смотрел, ее мальчик. Вдруг она подумала, что неправильно дала номер, подошла к листовке поближе, перечитала цифры. Все было правильно, но телефон молчал, никто не звонил, не откликался. Она поела в кафе на вокзале. Поезд на Москву был через два дня, она купила таблетки от укачивания и пошла на автостанцию, автобусы ходили каждую ночь.
На автостанцию вела узкая заросшая улица вдоль заводской стены. И вдруг Анна Васильевна увидела вереди себя, буквально в десяти шагах, сына, его сутулую худую спину в черной куртке. Крикнула:
— Сережа!
Бросилась за ним, нагнала. Он обернулся, и она остановилась, пораженная. Лицо было чужое.
— Что? — спросил парень.
— Нет, — сказала она. — Ничего.
Отступила. Ее мальчик стал оборотнем.
От таблеток веки тяжелели и закрывались, Анна Васильевна забылась сном. Проснулась, когда автобус стоял. Горел фонарь и освещал крыльцо магазинчика. Водителя не было. Моросил дождь. Дверь магазинчика отворилась, и водитель вышел на крыльцо. Она закрыла глаза. Слышала, как он садился в автобус, как заводил мотор. Очнулась, когда все уже вставали выходить.
— Москва, — сказали ей.
Ключ вошел в замочную скважину, повернулся.
В темной прихожей Анна Васильевна споткнулась обо что-то. Зажгла свет и увидела ботинки сына. Грязные, раздолбанные ботинки, полгода назад всего купленные. Но обувь он убивал быстро.
Она сняла сапоги и прошла в квартиру.
Сын спал на диване под пледом. Немо мерцал экран телевизора. В блюдце на журнальном столике горой лежали окурки. Форточка была распахнута. Анна Васильевна села перед сыном на корточки, заглянула ему в лицо, словно хотела увериться, что это точно он. Поднялась и тихо вышла из комнаты.
В кухне она нашла две бутылки из-под пива, на полу, у раковины. Хлебные крошки на столе, нож со следами сливочного масла. Она вернулась в прихожую и взяла ботинки. Летние, легкие, в них уже холодно. Ботинки она вымыла, протерла и оставила досыхать, чтобы потом начистить кремом. Заглянула в комнату. Сын перевернулся на спину и приоткрыл рот во сне.
К обеду он проснулся — от запаха тушенного с картошкой мяса.
— Почему же ты не звонил? Где ты был? Работал? Кем? С кем ты? Как ты мог не звонить? Что я пережила, передумала, ты хоть представляешь?
Она его спрашивала, он ел, отвечал.
Так получилось. Уехал. Все достало. Все. Не мог. Потому что ты бы стала звонить, доставать. Я не хотел. Хотел один. Так. Грузчиком. Там, в магазине. Нормально. Я тут взять хотел. Свидетельство о рождении. Надо, сказали. Вкусная картошка, да. Чего ты плачешь? Извини, правда. Я не хотел. Я буду звонить. Ладно. Правда буду. Извини. Я тебе духи привез. Так. В подарок. Я права получу. Дальнобойщиком. Я не люблю на одном месте. Скучно.
— Ботинки у тебя холодные.
— Нормальные.
— Зима скоро, надо зимние.
— Куплю.
— Денег тебе хватает?
— Нормально все.
Он уехал в этот же день. Она досидела в кухне до сумерек, до темноты. Все слышала — и тиканье часов, и гул лифта, слышала, осознавала, но так, как будто бы ее самой не было. Из небытия.
Позвонили в дверь, и Анна Васильевна подумала, что это сын, что-нибудь позабыл, за чем-нибудь вернулся. Тихо, шаркающей походкой пошла открывать. Старушечьи шаги. Не заглянув в глазок, отворила. На пороге стояла Галина Петровна.
— Можно?
Прошли обе в кухню.
Сидели в полумраке, молчали. В полумраке им легко было говорить, не видя друг друга, не различая.
— Сын был?
— Да.
— Уехал?
— Днем.
И молчать в полумраке легко, как бы с собой молчишь наедине.
— Спросить хочу.
— Да.
— Как там дом? Видели?
— Дом?
— Ну да. Видели? Подходили?
— Да.
— Как он там?
— Нормально. Стоит. Ремонт. Вроде бы говорили, что газ собираются проводить. Я слышала разговор.
— Значит, печку сломали?
— Наверно.
— А мебель?
— Не знаю. Вынесли, наверно.
— Я мало чего взяла. Нарочно, чтобы не тащить рухлядь. Прошлое — в прошлом.
Помолчали.
— Я бы не хотела туда совсем вернуться, в то время. Но я бы хотела взглянуть хоть одним глазком на них, на маму и на брата, и на себя в косичках, услышать, как тогда часы тикали, войти в дом невидимкой и посмотреть на нас всех, разговоры подслушать. Но мне остался только один вечер в старом пустом доме, где давно уж никого — ни мамы, ни брата, ни меня. Я нашла книгу на этажерке, «Тарас Бульба», сунула ее в сумку, прибор столовый для горчицы, соли и перца, я его купила с первой зарплаты и маме подарила, и больше я ничего не взяла, мы договорились, что они сами распорядятся, хотят — на помойку, как хотят.
Галина Сергеевна помолчала и сказала:
— Пойду.
Анна Васильевна ее не провожала. Слышала, как защелкнулась дверь. Посидела еще немного и пошла спать.
В субботу она все в доме прибрала, перемыла. Фотографии разложила и надписала. Но кто был незнакомец на снимке, так и не вспомнила.