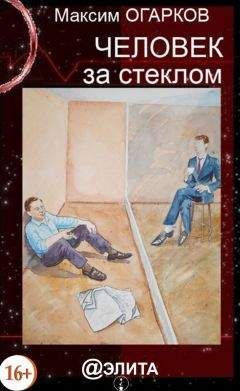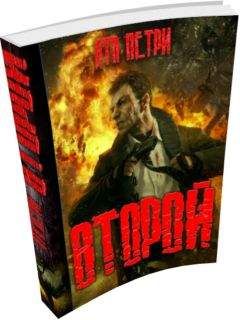Шаг.
Лодочка причалила не там. Причалила на таком знакомом месте, в кровать, источающую пот и старость. Пешков чувствовал, как подергиваются вялой, но живой энергией мышцы рук, ног, шеи, он понимал, что время его еще не пришло. Животворящий день смотрелся в окно, как смотрятся в зеркало недурные девушки.
Он встал только к вечеру. Черепашьими ногами цеплялся за тапочки, поводя головой в разные стороны, ощущая только слабость и голод. Поднимался со дна живота приятный голод, мысленно двигались в уме приятные цифры: есть 3 тысячи, есть еще один день, восьмое, суббота. В двадцать думалось – почему так мало – двадцать четыре, должно быть больше. Шестьдесят? Больше, должно быть неизмеримо больше. Неужели восемьдесят страниц текста – это уже пять часов? Пять часов и восемьдесят страниц, а если поэзия? А если философия? Уже медленнее, а пять часов быстрее и быстрее, книга выпадает из рук, на диван. Осталось только масло сливочное и рулон мяса, мясо в бумаге. Килограмма полтора. Меньше. Руки послушные: они надевают шарф и носки, ботинки и пальто, берут портфель и трость и открывают дверь. Дальше ноги: идут по ступенькам: четыре раза по девять и три и трость. Руки: открывают дверь, закрывают дверь. Лицо: неприятный ветер, очень неприятный. Глаза: ком газеты, дым, восемь ног, трость. Уши: мат и смех, мат, смех. Глаза: столб, лед корочкой, бычок, лист ветхий под моей ногой и шумен и душист и трость. В магазине нужно обязательно собрать воедино и надеяться, что: глаза показывают, связки: смыкаются и звук, оформленный артикуляционным аппаратом, хрипит, и руки: отдают, забирают.
Всю оставшуюся дорогу Пешков думает: Я взял хлеба.
Она появилась неожиданно на втором лестничном проеме.
– Не дозвониться до вас. Что случилось? Больны? Пьете?
– Кхм… нет, нет, я как бы болел, но почти вылечился.
– Мы же с вами, Алексей Иванович, договаривались, а вы Петьку не пускаете теперь. Не отпираете.
– Я болел.
– Ну, позвонить, там, ну, сказать, что – язык отвалится?
– Я не понимаю…
– Да что же вы за человек-то такой, что для вас важнее – ваша водка или служение во благо общества?!
– Господи, ну и слова. Понабралась.
– А вы не горячитесь, Алексей Иванович, вы обмозгуйте… Вы дверь не закрыли – заходи кто хочет!
Пешков остановился и тихо ухнул в открытую дверь:
– Лева, прогони ее, – Пешков брезгливо толкнул Булычёву.
– Что такое, куда вы меня…
– Лева, помогай, кот, ну где ты? Ну! – Пешков прошел в квартиру, заглядывал в комнаты.
– Я никуда не уйду, пока мы с вами
– Где кот? Лева? Ты где?
– Может, он ушел?
– Левушка.
– Говорят, они уходят, когда старые.
Пешков рухнул на табурет и заплакал. Булычёва, пятясь, вышла из квартиры.
Полночи бродил Пешков вокруг дома и звал кота. Кот лежал в кустах и сонно наблюдал за проходящим мимо него каждые десять минут Пешковым. Потом Пешков ушел. Такой удобный случай. И время пришло. Лева тщательно вылизал свою дряблую, клокастую шкуру, встал и медленно пошел, все дальше и дальше от Пешкова, от дома, трости, и той женщины, хорошей и теплой, которая ела апельсины и гладила его немытыми руками, а он – терпел.
С утра Пешков заварил крепкий чай и съел большой бутерброд с маслом. Булычёва позвонила в час дня и назначила Алексею Ивановичу занятие с Петрушей на вечер. После Пешкову принесли пенсию, он взял ее с радостью и понес в магазин. Новый телевизор стоял в комнате и завораживал постоянной сменой красочных картинок, веселых слов, шуток, страшных новостей. Пешков радовался, как дитя – теперь он знал лучшую марку макарон и как выбирать качественные и вкусные кокосы. Он обижался и грустил во время новостной передачи. Его поразили красные куски человеческого мяса и лица каких-то людей – черные, мрачные, с глазами, смотрящими на Пешкова с отсутствием, казалось, всех чувств. Где-то были такие глаза, но где он их видел? Вечером Пешков зачитал Петруше восемь упражнений из учебника, в которых он сделал всего пять ошибок. Ночь прошла без сновидений.