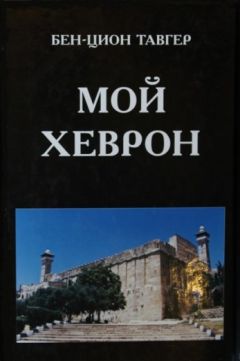Уже тогда, в конце пятого класса, я понимал, что времени у меня в обрез. Смерть приближалась, а работы было еще невпроворот. Я срочно должен был поймать в свои сети девушку, которая соответствовала бы всем моим требованиям и подходила на роль подруги будущего мертвого героя.
Спасение пришло ко мне в образе Авишаг.
О, Авишаг, моя Авишаг…
Первая в твоей жизни женщина — это своего рода квинтэссенция великой тайны любви. Если ты не сумеешь в эту тайну проникнуть, то не разгадаешь ее уже никогда. На первый взгляд, чем больше ты живешь, тем глубже начинаешь во всем разбираться, но в действительности это совершенно не так. То, чему не успела научить меня Авишаг, не смогла научить и ни одна из тех женщин, которые были у меня впоследствии. Я не знаю, что именно известно женщинам о нашем торчащем пенисе, но что касается женских гениталий, то и сейчас, на склоне лет, я могу честно признаться, что разбираюсь в них ничуть не больше, чем тогда, в ту далекую пятницу, когда впервые переспал с Авишаг.
Женский половой орган — это как жизнь или как война. Ты можешь его изучать, готовиться к встрече с ним, строить на его счет предположения и разрабатывать умные теории. Но при первом же столкновении с ним все теории рушатся, и ты понимаешь, что мир — это хаос, а женские гениталии — его уменьшенная модель.
В те времена я не претендовал на роль эксперта в области любви и секса. Я пришел к Авишаг абсолютным девственником. Все, чего я хотел, это стать наконец настоящим мужчиной. В распаленном воображении я видел рыдающих женщин, с силой протискивающихся сквозь толпу к моей еще не закопанной могиле, дабы успеть проститься с «Зикфридом» (такое прозвище я дал своему вызывающе торчавшему из моего тела члену).[12] Я хотел, чтобы они толкались, царапались, плакали, вопили и проклинали судьбу за то, что она разлучила их со мной.
Из всех снов о моих похоронах, которые приснились мне в то время, особенно запомнился один. В этом сне посреди душераздирающих рыданий вдруг раздалось пронзительное марокканское «у-лю-лю-лю-лю».[13] Много лет после этого я пытался понять, каким образом и откуда в сон о похоронах ухитрились проникнуть марокканцы.
— Что могла делать марокканка на моих похоронах? — спрашивал я себя, самодовольно посасывая трубку и подмигивая себе с сознанием собственной значительности. — Подавали ли какое-то угощение? Были ли там сигары?
В те времена я еще не успел проникнуться очарованием северо-африканской эротики и в конце концов пришел к выводу, что это марокканское «у-лю-лю-лю-лю» залетело в мой сон из будущего и что марокканка как бы пыталась своим криком вернуть меня из могилы в мир живых.
Авишаг не была самой красивой женщиной в мире, но уже в юные годы я понял, что с моей внешностью придется научиться довольствоваться малым. Авишаг не отличалась и особым умом. Но ведь и мой Зикфрид тоже не проходил теста на уровень интеллекта. Можно сказать, что мы с Авишаг представляли собой воплощенную посредственность. Однако, несмотря на это, мы любили друг друга до ужаса. Любили так сильно, что иногда я даже забывал, что мне предстоит умереть. Вместо мрачных мыслей о плакальщицах, рыдающих у моей могилы, я стал предаваться мечтам, окрашенным все больше в салатно-зеленые и небесно-голубые тона.
Когда ты любишь по-настоящему, тебе хочется поселиться в деревне, воссоединиться с землей, и выражение «мать-земля» приобретает для тебя совершенно иной, почти буквальный смысл. Земля и цветение растений становятся как бы непосредственным продолжением женской матки. Мне было всего 16 лет, но благодаря Авишаг я смог постичь некоторые вещи гораздо глубже, чем за все последующие годы своей жизни. Рядом с Авишаг я узнал, что представляет собой первый контакт мужчины с женщиной, начал лучше понимать, что такое земля и ее зеленый покров, открыл для себя голубизну неба и улыбку ребенка. Жизнь стала похожа на миф. Я, моя Авишаг и земля как бы слились в единое целое.
В ту пятницу, после полудня, Авишаг преподала мне урок, который я не забуду никогда. Воображая себя в грезах прожженным воякой, я, однако, не осмеливался мечтать ни о чем, кроме поцелуя в щеку, и вдруг почувствовал, что в штанах у меня шарят пальцы. Быстро пересчитав пальцы у себя на руках, я, к своему великому удивлению, обнаружил, что пальцы в брюках — не мои. Я был совершенно ошеломлен, да и мой Зикфрид тоже. Ни он, ни я не были готовы к этому внезапному вторжению и не знали, как на него реагировать. В горле у меня пересохло, и я из последних сил попытался выжать из себя слюну, чтобы не умереть от обезвоживания. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. И тут она дотронулась до меня по-настоящему. Это прикосновение не было похоже ни на что, испытанное мной ранее. Мне было так хорошо, что казалось, лучше уже быть не может. Даже сейчас, по прошествии многих лет, когда я вспоминаю об этом, по телу у меня пробегают мурашки. Дрожа от смущения, я решил проявить инициативу и тоже дал волю своим пальцам. И хотя благодаря изучению фотографической коллекции отца я уже довольно неплохо ориентировался в «клиториальных» науках, блуждание моих девственных пальцев между ног у девушки вознесло меня на вершины неописуемого блаженства.
И вот, когда, как наевшаяся отравы мышь, я метался по лесистой чаще ее лона в поисках чего-то совершенно непонятного, а мои пальцы стали липкими от горячего конфитюра, напоминавшего лаву, поднявшуюся из глубин земли, я вдруг неожиданно для самого себя начал причмокивать, пыхтеть, хрипеть и похрюкивать. Что-то было не так, как раньше. Я неудержимо приближался к короткому замыканию сознания, к взрыву электростатических зарядов в верхних долях мозга. Мною овладел страх смерти, меня стал бить холодный озноб. И вдруг чудесным образом, совершенно неожиданно, в самое последнее мгновение, плотина у меня между ног прорвалась, и вслед за этим мной овладела приятная слабость. Минуту или две я задыхался, уткнувшись в шею своей возлюбленной, но затем почувствовал, что возвращаюсь к жизни и могу продолжать.
О, Авишаг! С ней я впервые стал настоящим мужчиной и понял, какая сила таится в различиях между мужчиной и женщиной. Я любил ее очень, очень сильно. О, как я любил мою Авишаг!
Я любил Авишаг так страстно, что некоторые органы моего тела (в особенности выпиравшие наружу) стали активно противиться отвратительной идее самоубийства во имя государства. Лишь в более зрелом возрасте я понял, что страдал в те годы от ужасного раздвоения личности. Я знал, что Авишаг выбрала меня, подполковника Г. Ванкера, потому что хотела стать вдовой. Но при виде ее прелестей у меня, как назло, проснулся интерес к жизни.
Уже тогда я понимал, что мир устроен не так, как тебе хочется. Он развивается по своим собственным законам и превращает тебя в твоего собственного тайного агента. Для тех, кто меня знал, я продолжал оставаться все тем же заместителем командира бронетанковой бригады. Мои друзья переняли у меня мою методику ухаживания и тоже превратились кто в офицера генштаба, кто в командира полка, а кто в командира роты в составе моего подразделения. Однако в глубине души у меня стало зреть все более и более сильное отвращение к дурацкой беготне по полю боя среди визжащих вокруг пуль противника. Если память мне не изменяет, я боялся даже и думать об этом страхе и, разумеется, никому никогда о нем не рассказывал. Страх перед этим страхом был так велик, что я не решался признаться в нем даже самому себе. Наоборот. Чем сильнее я боялся, тем более суровым и мужественным было выражение моего лица.
Один из моих любимых писателей, чье имя действует на меня как аромат роз, писал, что главная проблема разведчика состоит в том, что он должен полностью «раствориться» среди своих врагов и стать совершенно неотличимым от них. Но при этом он может так глубоко войти в роль, что возникает опасность его перехода на сторону врага. Именно это произошло со мной в объятиях Авишаг. Я перестал быть «чужаком», растворился, превратился в «своего». И пока я, как Ванька-встанька, двигался туда-сюда в ее гостеприимном влагалище, в голове у меня начали звучать совсем иные песни — песни вечной любви и продолжения рода. Я дезертировал в ряды страстных любителей жизни и больше не хотел умирать во имя сионистской мечты. Я хотел ради нее жить и служить ей на поприще рождаемости. Незаметно для себя я утратил веру в то, что целью моего существования является гибель. Я больше не был чужаком и стал, так сказать, «членом семьи».
В то время как в крови у меня бушевали страсть к жизни и похоть, в моем штабе меня продолжали окружать тупые офицеры, рвавшиеся в бой. Стадо козлов, радовавшихся приближающейся смерти, в полном соответствии с учением их вождя и учителя, вашего покорного слуги. К своему великому удивлению, я обнаружил, что обладаю слишком сильной харизмой и она может навлечь на меня беду. Что я мог поделать со своими игрушечными офицерами, которые так рвались в бой, если сам я не желал ничего, кроме открытой мной жемчужины страсти! Будучи в этой идиотской организации самым старшим по званию, я обязан был вести себя соответственно, сурово и непреклонно. Между тем меня это все совершенно не волновало. Уже тогда я понимал, что обычная глупость — зло преходящее, тогда как глупость харизматическая может запечатлеться в памяти потомков навечно.