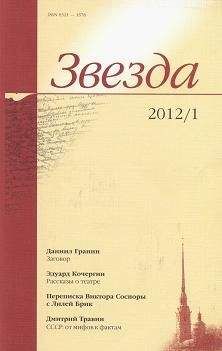Грузины!
Этот народ задолжал мне, по моим подсчетам, около 500 рублей. О, восточные церемонии!
О, хваленая добропорядочность и товарищество.
О, бриллианты борделя! — как сказал бы главный герой моего романа «Летучий Голландец»[60] корабельный кок Пирос.
А деньги не шлют, мерзавцы, невзирая на мои пламенные и мудрые воззвания к их совести.
Я сейчас нахожусь весь в романе. Мой «Летучий Голландец» обещает быть действительно романом — листов на 10–12. С приключениями, с кольтами, с издевательством над всем тотальным театром абсурда современности нашей непревзойденной. Не хочу хвастаться — но это совсем иная проза — феерия, клоунада, буффонада, смешное сумасшествие, и — финал безнадежен, и — слезы финала. Но — еще много писать надо. Все путается, — трудно, мой первый роман.
А здесь мы пьем молочко. Собираем совместно грибы и жарим оные (жарит — Марина). Она так выковыривает каждого червячка, что приводит меня в ярость, я хватаю машинку и пишу роман, чтобы не видеть этого издевательства над белым грибом.
Мы здесь будем до 22 августа. Будет настроение — черкните, пожалуйста.
Василию Абгаровичу приветы! От Марины — приветы!
Ваш В. Соснора
Переделкино, 22. 8. 67
Дорогой Виктор Александрович, письмо Ваше такое грустное… Нельзя выпить, нельзя купаться — может быть, было бы лучше под Ленинградом, в Комарово? Рада, если Вам пишется. А больничную рифмованную поэму дописали?
Помните, я говорила Вам о французском поэте — Dominique Tron. Ему исполнилось 16 лет. Сегодня получила № «Lettres françaises»[61] с отрывком его прозы. Это не может быть! Чудо! Попробую перевести, хоть это и очень трудно. Если удастся — пошлю Вам. Не знаю… споткнулась сразу же, на заглавии. Вот-вот должен выйти второй сборник стихов.
Звонила Э. Б.[62] Выставка М<аяковско>го в Париже — вернисаж — прошел триумфально. В зал проникло 1500 человек, за дверью осталось почти столько же. Молодые поэты читали стихи М<аяковско>го. Показали «Барышня и хулиган»[63]. Многие плакали, а молодежь смеялась. Фильм-то старый… После 12-ти парижских муниципалитетов выставка поедет в 20 франц<узских> городов. Оттуда, возможно, в Италию. А на Таганке у Любимова идет спектакль «Послушайте!»[64]. Маяковского играют (читают?) 5 актеров без грима. В конце публика забрасывает сцену цветами. Актеры ловят и подбирают их и складывают под портретом М<аяковско>го — холм цветов! Оказалось, что М<аяковско>го любят.
В Москве жарко. А в Переделкине под окнами неистовствует сирень, и день и ночь поет соловей.
Стихи Ваши отдала наконец. Звонил Кулаков, что едет на несколько дней в Ленинград — сдавать оформление Вашей книги. Потом берется за «Баню»[65]. Договор с ним, кажется, заключили.
Только 25-го будем в городе и я опущу это письмо. Получаете ли Вы газеты? Вчера на съезде выступил Демичев[66], а в президиум выбрали — Твардовского и Кочетова. Жаль, что ты глухая, — есть о чем поговорить, как сказал один мальчик на ухо лошади… На съезд приехал Энценсбергер[67] и кстати женился на Маше Алигер[68]. Был у нас Боффе — не сегодня завтра там должна выйти антология, в кот<орой> есть и Ваши стихи.[69] Думает о сборнике и Неруда[70], в котором (сборнике) будете Вы. Справляется о Вас Э. Ю.[71] Сколько времени проживете в Коктебеле, и собираетесь ли в Москву?
Всю ночь шел дождь и сегодня прохладно.
Пожалуйста, пишите мне!
Вас<илий> Абг<арович> низко кланяется.
Обнимаю.
Лиля
10. 1. 68
Дорогая Лиля Юрьевна!
Вот мы въехали в Новый Дом.
Две смежных комнаты — общая 18 кв. м и мой кабинет 10,5 кв. м, и кухня 8 кв. м.
Марина бегает и дрожит от радости, как собака. В аптеке висит плакат «Граждане, витамины не только в таблетках, но и в пище». Мудро. Я вкушаю по 9 таблеток в день с молоком и с пищей, как ангорский котенок. Трезвенник и тружусь. Теперь у меня в кабинете свой хороший письменный стол, диван-кровать, секретер, 2 ореховых стула и на стенках картинки двух гениев: картинки сексуальные Кулакова и антисексуальные Грицюка[72]. Они хороши, как все противоположное. Мою историческую книгу, кажется, вот-вот сдают в производство. Моя современная книга все еще девушка — директор никак не соблазнится лишить ее невинности, т. е. от эвфемизмов к реализму, — договора все еще нет. Будет.
Хорошо сидеть в берлоге, глотать инжир с изюмом и сочинять биографию Державина[73]. К марту таки придумаю бедняге биографию. Это будет не больше 8 листов. Иных путей напечатать прозу — нет. Да и интересно. Если подумать и похитрить — под марку Державина можно сказать всё.
Все никак не добраться только до «Дня поэзии».
Перепечатываю для Вас экземпляр моей книги верлибр-поэм. Их пять. Называется книга «Хроника 67»[74]. Вместе с той больничной поэмой она — страшненькая. 2 поэмы из нее я написал в ноябре-декабре, и Вы их еще не знаете. Пришлю на неделе и рукопись и «День»[75].
Москва все отодвигается. Во-первых — деньги. Во-вторых — мороз. Боюсь, что месяц по такому морозу в Москве я не очень-то разбегаюсь. Здесь мне можно выходить на улицу с целью прогулки. Вот уже полтора месяца, как врачи сурово и грозно взялись за мое изнеженное, кабинетное тело: «Где же вы, дни весны?»
На днях мне попались томики Федора Сологуба. Какие гениальные строчки — и как мало стихов! Как странно не состоявшийся поэт!
Как обидно за Андрея! Не знаю, как в Москве, в Ленинграде от него отворотились после «Зарева»[76]. «Медведь взревел и замертво упал»[77]. Хочется верить, что это не так, да, наверное, это и действительно не так.
Кулаков ходит потрясающе трезвый. Даже на своем 35-летии пил совсем сухое вино на 3/4 разбавленое водой. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»[78] Наверное, впереди всех нас ожидают «Неслыханные перемены, неведомые мятежи»[79], иначе с чего это такое затишье и моральность? Ведь даже Державин писал: «Уж лучше пьяным утонуть, чем трезвым доживать до гроба и с плачем плыть в толь дальний путь!»[80]
Как Ваше здоровье? Как Вас<илий> Абг<арович>? С наступающим Вас настоящим Новым годом! Будьте здоровы! Обнимаем Вас с законной теперь моей женой.
Ваш В. Соснора
8. 2. 68
Дорогая Лиля Юрьевна!
Наконец-то опять обзавелся машинкой — купил у Кулакова, новую, а он купил в Москве. Чешская «Консул».
Уж не больны ли Вы? Позвонить никак не удается.
Я сижу на девятом этаже без газет и без радио. Так сказать, перефразируя Блока, «я вижу все с моей вершины».[81] Хорошо, но не очень тепло.
Наконец-то после целой серии мистерий и буффонад со мной заключили договор в «Советском писателе». Там все современные стихи — парижские, и под видом парижских. Продолжается война за год издания.
В газетенках ленинградских поклевывают. Но это административно пока никак не отражается. Пусть цыплята стучат в пустую скорлупу. Им тоже для развития необходим цемент.
Впервые за последние пять лет вдруг сел и отправил все стихотворные и прозаические запасы в шесть журналов!
«Москва», «Знамя», «Простор», «Подъем», «Север» и «Новый мир».
Это — детское мартин-иденство, слава богу, я журнальную систему выучил, но что делать. Как-то нужно очищать совесть, чтобы не прославиться в собственных глазах бездельником и тунеядцем.
В «Новый мир» я отправил повесть о Пушкинских Горах и о Пушкине. Вы ее читали — «Вечера сирени и ворон»[82]. А также рискнул и отправил две большущих поэмы. Не напечатают, так хоть прочитают.
Сопроводил все это запиской Твардовскому. Не знаю, этично ли это?
И вообще смутно понимаю столично-журнальную этику. По-моему, она существует лишь в нашем воображении.
Черкните, пожалуйста, пару слов. А то я уж и не знаю, что думать. Фрию[83] молчит. Видно, позабыл про все вызовы на свете белом в своих пенатах.
Будьте здоровы! Обнимаем Вас и Василия Абгарыча!
Будьте здоровы!
Ваш В. Соснора
1. 4. 68
Дорогой Виктор Александрович, я написала Клоду — напомнила о Вас. Свинья он!
Спасибо за письмо, хоть оно и грустное…
Пришлите, пожалуйста, Ваши «стихи для детей», если есть лишний экземпляр, — попробую в нашем «Детиздате».