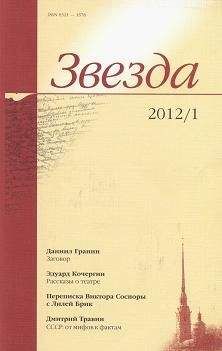Тих мой дом, и пышен мой сад, а Крым — место моего рождения. Но сия родина мне чужда. Мое состояние — это ночные совы Петербурга и финский лес, когда жить плохо и страшно. Но, слава богу, за этим дело не стоит — все это я ухитряюсь сделать себе в любом уголке земли.
Почти ни с кем не знаком здесь, а с кем знаком мельком — не контактирую: неинтересно. Ни о каких выпиваниях не может быть и речи: жарко, не с кем, не хочу, нет смысла.
В этом доме творчества ни один нормальный человек не работает. Это преступная беспечность саперов, как в семье говорят про мужчину — обабился.
Вот какие все плохие и какой я ангел.
Будьте здоровы!
Василию Абгаровичу — поклон!
Обнимаю вас!
Ваш В. Соснора
28. 5. 67
Дорогая Лиля Юрьевна!
Если во всей вселенной солнечная современность, то в Коктебеле — каменный век.
Четвертый день — дождь и холодно.
А каменный потому, что все собирают камни. Я тоже заболел этой лихорадкой. Нашел уже кое-какие сердолики, один аметистик и остальные окаменелости и халцедоны с агатами. Почитать Уайльда — там я богатый наследный принц[44].
Книга, задуманная мной, постепенно осуществляется. Называется она: «В поисках Донны Анны»[45].
Уже есть три нерифмованных поэмки, отбеленных. И одна, последняя, была для меня очень мучительна. Это поэма-молитва. Моя неврастения прогрессирует: стоял две ночи на коленях и рыдал, как собака, молясь своему абстрактному Господу. Эта поэма — молитва перед самоубийством. Она сюжетна — как дождевые струи во время грозы превращаются в змей и пожирают все предметы комнаты. И я с ними ничего не могу поделать. И как зеркало пожирает змей и переваривает их.[46] Да чего рассказывать!
Если мне возьмут билет через Москву, то обязательно остановлюсь на несколько дней и почитаю все. Если нет — перепечатаю и пошлю из Ленинграда.
Женщин здесь мало, и все леди Макбет.
Так что мои поиски Донны Анны носят полуаскетический характер: была хорошая девушка Ритта, а теперь есть красивая женщина Иветта.
К писательской кухне питаю ненависть, но — питаюсь.
Пляж — это пляшущие человечки.
Да — о, честь и слава русской нации! — меня перевели в комфортабельный корпус № 19.
На днях состоится мое чтение в салоне Волошиной[47]. Меня попросили некоторые писатели, а отказаться неудобно.
Никого симпатичного здесь нет, кроме двух прелестных стариков из Китая — коллекционеров и миссионеров по распространению каменной болезни. И приехал еще один мой хороший человек — академик Работнов[48]. Он физик, но дивно понимает и любит стихопись.
Писатели ходят «с кругами синими у глаз» от преферанса. Я сыграл пару раз и перестал.
Дивно цветет акация, и вообще 2 х 2 = 356. Какое-то мое колесико сломалось. Спасибо, что передали стихи и за заботы. Живу, как жук в аквариуме, — за стеклом все видно, а ничего не коснешься.
И все же посылаю вам молитву из поэмы:
— Я сегодня устал,
а до завтра мне не добраться.
Я не прощенья прошу,
а, Господи, просто прошу:
пусть все, как есть, и останется:
солнечная современность
тюрем, казарм и больниц.
Если устану
от тюрем, казарм и больниц
в тоталитарном театре абсурда,
если рука
сама по себе на меня
поднимет какое орудье освобожденья, —
останови ее, Господи, и отпусти.
Пусть все, как есть, и останется:
камеры плебса,
бешеные барабаны,
конвульсии коек операционных, —
и все, чем жив человек, —
рыбу сухую,
болотную воду
да камешек соли —
дай мне Иуду — молю! — в саду Гефсиманском моем!
Если умру я —
кто сочинит солнечную современность
в мире,
где мне одному отпущено
лишь сочинять, но не жить.
Я не коснусь благ и богатств твоих тварей.
Нет у меня даже учеников.
Только что в сказках бабки Ульяны
знал я несколько пятнышек солнца,
больше — не знал,
если так надо —
больше не буду, клянусь!
Не береги меня, Господи,
как тварь человечью,
но береги меня
как свой инструмент.[49]
Очень рад, что в Париже появился чудесный мальчик[50]. Есть еще один младший братик. Очень интересно было бы познакомиться с его игрой. Невежда я, жду Вашего перевода.
А сейчас пишу статью о частушке.
Не видели моего Державина во 2-м № «Русской речи»? Кое-что осталось.
Будьте здоровы!
Обнимаю Вас и Вас<илия> Абгаровича!
Ваш В. Соснора
Переделкино, 6. 6. 67
Виктор Александрович, дорогой наш!
Сколько Вы еще поживете в Коктебеле?
Застанет ли Вас это письмо?
Ваше — такое печальное!
Писать не о чем. Поговорить бы! Рада, рада буду, если сможете остановиться в Москве.
Перевести Доминика[51] — нет энергии. На днях жду его новую книгу. Эльза пишет, что она «совсем не похожа на первую», что «отчаянная, гениальная книга».
На выставку Маяковского, оказывается, ходят не только на вернисажи — человек 500 каждый вечер!!
У нас второй день дождичек. В кухне пекут огромные пироги с ягодами и с капустой по случаю дня рождения внука Всев<олода> Иванова — ему (внуку) 17 лет.[52]
Сирень отцвела. Цветет жасмин. Ирисы, желтые лилии, всякие колокольчики. Соловей не унимается. Скачут белки — их смешно сопровождают птички — мотоциклисты. Никогда такого не видели! Забежал к нам в сад лосенок.
Были на выставке Кулакова[53]. Красиво развешано, красивые вещи. Народу мало, но в книге отзывов — хвалят.
Обнимаем, любим.
Лиля Брик
Читали? Понравились отдыхающим Ваши стихи? Впрочем, какое может быть сомнение! Конечно, понравились!
Переделкино, 17. 7. 67
Дорогой, дорогой Виктор Александрович, обрадовалась Вашему письмецу.
Мы живы. Вася с Львовским пишут пьесу на тему «Маяковский» для Театра сатиры. Не столько пишут, сколько стараются написать… «Анна»[54] снимается. «Чернышевский» как будто принят.
Журнал «Вопросы литературы» неожиданно попросил у меня главу о Маяковском и Достоевском. Она уже в наборе. И просит еще что-нибудь из моих воспоминаний. Не знаю, хорошо ли это…
В Париж собираемся в ноябре — е. б. ж. Готовим для Франции выставку «М<аяковск>ий и его время». Французы отпустили на это дело много денег. Наши — немного, но все-таки! Плучека сильно топтали газеты «Сов<етская> культура» и «Труд». Журнал «Театр» тоже подбавил. Якобы — за грубость. Но мы-то знаем, что Плучек нежнейший человек…
Встретили на приеме во франц<узском> посольстве Вознесенского. Говорит, что стихи писать бросил и занялся живописью!
Вчера Юлик Ким расписался с Петиной дочкой[55]. Собирались справить это достойным образом. Я говорила с Юликом по телефону, он рад-радешенек.
Пишите нам в Москву.
А где Марина? Поцелуйте ее.
Лиля
24. 7. 67
Дорогая Лиля Юрьевна!
Очень рад, что у Вас все хорошо. И безумно рад, что идет из Ваших Воспоминаний. Вы мне ничего о них почему-то не говорили. А очень хотелось бы почитать, если можно, конечно.
Да, идут дружной семьей Анна с Гавриловичем![56]
Почему Вы пишете «не знаю, хорошо ли это…» о воспоминаниях. Да — прекрасно! Ведь Вам-то известно больше всех.
Поздравьте, пожалуйста, от моего имени Петю, Валю[57], Юлика и его юную супругу. Я им написал поздравление, но не знаю, перепутал, может быть, адрес.
Вот сколько Вы хороших новостей мне сообщили!
А у меня все тихо.
Поэма с посвящением Вам пока идет и, кажется, уже в наборе[58].
Державина выкинули из второго журнала в последний момент, как и ожидать того следовало.
Пушкина поранили[59], отрезали ему бакенбарды и китайские ногти. Но — идет. Лучше воин пораненный, чем убиенный.
Грузины!
Этот народ задолжал мне, по моим подсчетам, около 500 рублей. О, восточные церемонии!
О, хваленая добропорядочность и товарищество.
О, бриллианты борделя! — как сказал бы главный герой моего романа «Летучий Голландец»[60] корабельный кок Пирос.
А деньги не шлют, мерзавцы, невзирая на мои пламенные и мудрые воззвания к их совести.