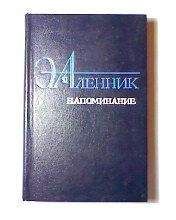Однажды во время такого шествия я нашел на тротуаре дамский носовой платок. По тому, как резко он был надушен, все сразу же определили, что это платок не ее. Я тоже был в этом уверен. И все-таки это был повод, опередив остальных, подойти, поклониться, спросить, не она ли его обронила, и завязать разговор.
«Нет, благодарю вас, это не мой», — услышал я в ответ и не успел начать заготовленного: «Мы, в некотором роде, знакомы» — так быстро она свернула за угол. А до меня долго доносились безжалостные соболезнования шагающих сзади сотрапезников.
Но за этим казусом последовала удача. Вечером я встретил знакомую курсистку Бестужевских курсов и пошел ее проводить. Она снимала на дальней, глухой линии Васильевского комнату в первом этаже с окнами на набережную. Первый этаж и окна на набережную — прошу вас хорошо запомнить. Это нам пригодится, эти данные окажутся роковыми. Не улыбайтесь, не подбирайте сюжет, все равно не угадаете.
Итак, я провожаю курсистку, милую, образованную, экзальтированную Нину, готовую посвятить свою жизнь разумному-доброму-вечному. Мы дружески болтаем.
Среди прочего она сообщает, что теперь живет в комнате не одна, а вместе с подругой, тоже бестужевкой, Варенькой Уваровой, самой неимущей из всех курсисток.
Она должна зарабатывать не только на себя, но и поддерживать мать и двух братьев, которых оставила в Полтаве, где отец, прокутив все до гроша, год назад пустил себе пулю в лоб. И Варенька, кончая гимназию, весь этот страшный год занималась репетиторством, чтобы семья не голодала, и все-таки умудрилась кончить с золотой медалью.
«Вы увидите, это редкостная девушка, — уверяла меня Нина. — Природа наградила ее и красотой, и божественным голосом — вы послушали бы, каким драматическим сопрано! — и, вдобавок, абсолютным слухом».
Она рассказала, что, когда в Полтаве, на выпускном вечере, Варенька пела соло, в зале присутствовал композитор Лысенко. Он подошел к Вареньке и с места в карьер предложил ей петь главную партию в его опере «Наталка-Полтавка». Варенькину маму это предложение оскорбило до слез. Она ответила композитору, что в роду Уваровых никогда певичек не было и быть не может.
А Варенька ответила, что была бы счастлива петь в его опере, но уже давно решила поступить на Бестужевские женские курсы, послала просьбу и получила благоприятный ответ, что может считать себя принятой.
Варенькина мама была в полном ужасе от такого решения. Она надеялась, что ее дочь выйдет замуж за очень богатого человека, предлагавшего ей руку и сердце, и спасет семью от позора нищеты. Она извела Вареньку истериками. Но, увидев, что решение дочери непоколебимо, написала в Петербург своей сестре и ее сановному мужу, у которых на званых обедах бывал даже министр двора. И вот Варенька в Петербурге, в доме своей тетушки. Тетушка возит ее по магазинам, портнихам, модисткам, наряжает как куклу, запрещает ей надевать «эту отвратительную черную юбку с белой блузкой а-ля Софи Перовская», запрещает говорить по-русски, особенно на званых обедах, напоминает, что на них бывает овдовевший князь М. и молодой, неженатый граф Д. Варенька должна помнить, что эти обеды у них по четвергам, что в эти дни она должна быть дома с утра, чтобы обсудить туалет, быть причесанной куафером, а не являться к столу с примитивно подколотыми косами, как у судомойки Феклы. И если к этому добавить, что в обязанности Вареньки входило ежедневное чтение вслух тетушке то французских, то английских романов и времени для посещения курсов почти не было, — можно понять, почему она не осталась в доме тетушки и перед очередным званым обедом вошла к ней в своей старенькой черной юбке с блузкой «а-ля Софи Перовская», вошла, чтобы сказать: «Спасибо и до свидания!»
Я слушал Нину в томительном предчувствии, хотя никаких данных для этого не было, кроме черной юбки, белой блузки и подколотых кос. Но так одевались, так подбирали косы многие бестужевки.
Я проводил Нину до подъезда и поспешил принять приглашение зайти на часок, познакомиться с подругой.
«Она скоро придет. Она дает урок неподалеку. Буквально все курсистки искали для Вареньки заработок, у нее теперь много уроков».
«А другого, постоянного заработка у вашей подруги нет?» — задал я наводящий вопрос.
«К счастью, есть! Ее удалось устроить кассиршей в столовую, недалеко ст университета, знаете, где вывеска: „Обеды для студентов“. Она получает там бесплатный рацион и приличное жалованье, которое целиком отсылает в Полтаву. Все было бы прекрасно, если бы ей так не мешали безобразно громкие споры каких-то ну просто тронувшихся умом студентов. Когда я спросила: о чем они спорят, может быть, о том, что волнует и нас? Варенька призналась, что она так боится что-нибудь в кассе напутать из-за этого шума, так боится что-нибудь неверно сосчитать, что не разбирает ни единого слова, не видит ни единого лица, — она ждет, что не сегодня-завтра ей скажут: „Госпожа Уварова! К сожалению, вы не справляетесь. Вы свободны“.»
Со всей отчетливостью помню, как после минутного шока я возликовал. Во-первых, потому, что не услышала госпожа Уварова… Варенька моего «мы, в некотором роде, знакомы» и не знает, что я один из тех тронувшихся умом спорщиков. Во-вторых, потому, что спор затеял не я. Помните, его затеял Алексей. О чем завтра же я ему с удовольствием напомню. В-третьих, что самое главное, — завтра же, благодаря мне, шум в столовой будет прекращен.
«Что с вами? Чему вы вдруг обрадовались?» — внося чай и стаканы, спросила меня Нина.
По счастью, на ответ не осталось времени: почти сразу за нею вошла Варенька Уварова. Да… вошла наша кассирша. Она мне показалась еще прекраснее. Усталость не сняла с ее лица печати неподвластности.
Протягивая руку, она впервые посмотрела на меня видящим взглядом. И не сочтите нескромностью — я до сих пор уверен, что увиденное не было для нее неприятным. Но времени для беседы оказалось ничтожно мало.
Она торопилась на поздний урок — готовить какого-то великосветского лоботряса к экзамену, Я проводил ее до дома этого лоботряса. Я шел рядом, чувствуя неправдоподобность своей удачи. Я заговорил о Собинове, уже покорившем Петербург своим Ленским и Лоэнгрином. Варенька посетовала на то, как ей не повезло: на курсах разыгрывались билеты на «Лоэнгрина» и она вытянула пустышку.
В университете тоже разыгрывались билеты на Собинова, я тоже был его поклонником. Но мне повезло — я вытащил билет на «Лоэнгрина». Надеюсь, не надо объясность, с какой радостью я предложил свой билет Вареньке Уваровой.
Она колебалась… Но музыка была тем единственным, чему она была подвластна. Мне удалось преподнести, осчастливить ее своим билетом.
Голос профессора осекся, захлебнулся на слишком высокой ноте, комично не идущей к его маститому облику. Он тотчас снял эту осечку шутливо поданным каламбуром:
— Да, осчастливил госпожу Уварову билетом на галерку… Но сия галерка стала для меня галерой каторжника. Впрочем, это вас не интересует. Вам уже давно кажется, что в этой истории я уделяю себе слишком много времени и места. Не так ли?..
Но вот наступает следующий день. Наступает время обеда. За нашим столом воцаряется тишина — все говорят шепотом. Я уже доложил долгообедающим студентам о том, что моя знакомая курсистка рассказала о своей подруге, и о том, что подруга рассказала ей о нас.
Но я не рассказал, что они живут вместе, что я имел честь говорить с нею, идти рядом… Я сокрыл это во избежание угрозы настойчивых «познакомь!». И, конечно же, я не забыл напомнить, кто всему зачинщик, кто первый и главный виновник шума.
Здесь стоит отметить, как нелепо движет нами иногда наше мужское честолюбие. Я не удержался, не смог не хвастнуть хоть каким-то своим преимуществом. И сказал, что мне удалось подарить нашей кассирше билет на «Лоэнгрина», якобы передав его через знакомую курсистку.
Но стареем мы, стареет наше мужское честолюбие.
И, постарев, не может простить молодому этой глупой ошибки. Она была роковой. Именно из-за нее удалось так стремительно выйти на авансцену Алексею Коржину.
Профессор откидывает голову на спинку кресла и смотрит куда-то в угол:
— Отчетливо вижу лицо студента Коржина. Он глядит на меня в упор и ехидным шепотом спрашивает:
«Надеюсь, ты осчастливил билетом не на галерку?»
Я веселым шепотом отвечаю:
«На галерку, дружище! Не стыдись за меня, подарок принят с восторгом».
Что же сразу после этого затевает наш друг? Что он делает, пока я довольствуюсь тем, что незаметно, глазами здороваюсь с Варенькой в столовой, ловлю ее сдержанный ответ, а вечером, под предлогом, что мне в ту же сторону, иногда провожаю на поздний урок? Что делает человек, до такой степени лишенный музыкального слуха, что наша братия, заводя песню, умоляет его не подтягивать, ибо, перекрывая всех звучностью голоса, тянет он всегда не туда, куда тянут все? Что же он делает?..