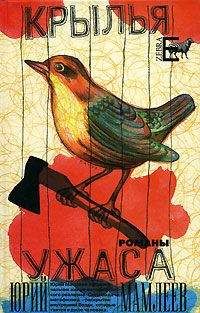— Словно этот мир создан по программе дьявола, — подумала она и сама же ужаснулась своей мысли.
Дома ее встретили крики, истерики, куда-то надо было идти, куда-то ехать, и в конце концов через два дня она оказалась в сумасшедшем доме, в детском отделении, где лежала племянница. Там было на редкость богато, уютно, и врачи были какие-то сверхдобрые. Девочка Мила, племянница, отказывалась есть главным образом мясо, чтобы не обижать животных — коровок, кур, петушков, свинок… Плача, не брала в рот почти ничего от щедрого мира. Каждый раз двое врачей и медсестра уговаривали ее есть нормально, но невинная кашка иной раз казалась ей мясом истерзанного животного… Глазки ее, как цветочки, наливались слезами, и она только лепетала в ответ на бездонную роскошь мира. Люда расцеловала племянницу.
— Глупышка ты, глупышка… Смотри сама не помри, если не будешь кушать.
— Пусть я помру, а кушать и обижать не буду никого, — плакала девочка.
— А разве ты кого-нибудь в своей жизни не обижала? — шепнула ей Люда.
— Обижала, но больше не могу обижать. Скорее умру, — прошептала девочка, целуя Люду.
— Ну будь умницей, съешь кашку, ты никого этим не обидешь…
— А нищих? — удивилась девочка.
— У нищих без тебя будет своя кашка.
Девочка недоверчиво пожала плечиком. И есть отказалась.
Люда разговорилась с молодой врачихой — психиатром. Нашлись даже общие связи, знакомые.
— Девочку-то нашу вылечите? — спросила Люда.
— Ничего страшного, — успокоила врач.
— А есть страшные у вас, в детском?
— Да как вам сказать. Всякие у нас есть. Есть очень трудно поддающиеся лечению, странные случаи.
И психиаторша показала Люде девочку, лет 15, уже в отделении для старших детей. У девочки были пронзительно-умные, но словно улетающие куда-то глаза.
— Вот это существо, — шепнула психиаторша, — знает наизусть всего «Идиота» Достоевского. Да, да, не шарахайтесь. Я открывала «Идиота» на случайной странице, она сидит передо мной, в моем кабинете — я читаю несколько строк, и она может продолжать по памяти…
— Она так любит Достоевского? — ужаснулась Люда.
— Не то слово. Я тоже люблю Достоевского. Ее отношение к Достоевскому нельзя выразить словами. Это что-то сверхъестественное. И ее не удается вывести из этого состояния…
— А только ли с Достоевским связаны такие состояния? Как другие писатели? — дрогнув, спросила Люда.
— Есть лишь два писателя, которые могут довести до сумасшествия. И вы, конечно, догадываетесь кто: Достоевский и Есенин. Причем на почве Есенина больше. У нас есть целая группа детей, возраст примерно 14–15 лет… Вся их жизнь проходит в том, что они до конца погружены в поэзию Есенина. Они не хотят жить, не хотят что-либо делать кроме того, чтобы читать наизусть стихи Есенина. Некоторые плачут. Они читают эти стихи целыми днями, плохо спят, встают по ночам, и тоже читают вслух или про себя стихи, бродят по палате, что-то думают. Их очень трудно вывести в мир, почти невозможно. Что-то надорвалось в их душе от этой поэзии.
— Удивительно, удивительно, — бормотала в ответ Люда в оцепенении. — Я и сама близка к этому. Но как можно жить с «Идиотом» в душе 15-летней девочке? Есенин же — понимаю…
— Дети хрупки и не похожи на нас все-таки, — улыбнулась врач. — А я наслышана о вас кое-что, звоните мне. Пересечемся на почве безумия, как говорится. Мы, психиатры, тоже не от мира сего немножко.
И Люда, обняв на прощание златокудрую племянницу, отказавшуюся принять мир какой он есть, покинула детское отделение…
— Бедная малютка, — думала Люда о племяннице по дороге. — Значит ее душенька детская не хочет признавать этот мир?! Она даже обижать никого не хочет. Не туда попала девочка. Ой, не туда попала… Трудно ей будет здесь.
Но мечта о сатанинском мире этом не покидала Люду. «По программе планетка эта создана, по программке рогатого, — умилялась она, но потом возмущалась. — А я то тут причем? Какое мое бытие, мое высшее «Я» к этому имеет отношение? А вдруг… — она сжалась. — Лишь бы сохранить бытие, даже жизнь. Жизнь, жизнь, — судорожно заметалась она в уме и сжала пальцы в кулачок. — Невозможно перенести потерю бытия».
…Прошло дня 3 и она, повеселев, встретилась с Сашей, с тем самым, с которым пили во дворе. За день до этого она была у Лени, тот по-своему молчал, и опять дико выл Володя, словно не переносил он не только физические страдания, а еще какую-то страшную мысль, не дающую ему покоя. Огромная голова Вити качалась в углу в знак полного (со всем миром) согласия.
Встретилась с Сашей у кафе, заодно с Ваней, буяном — толстяком, соседом Леонида, который тоже хотел его посетить. В этот день родители Лени не должны были прийти. Саша, которого вся эта история довела вдруг до исступления, был настроен весьма решительно.
— Да мы их всех испугаем, Люда! — почти кричал он, покраснев. — Вот увидишь! Есть в моей душе, в глубине, что-то пострашнее смерти! Мы их этим распугаем! И Леня твой очнется, ишь молчун. Я ему помолчу перед смертью! И Володю, крикуна, присмирю. Не будет кричать о себе на весь мир! Ишь, больно ему! Мне тоже, может быть, больно с самого рождения. И до сих пор — больно. Мало ли что.
Непонятно было, хвалится он или говорит правду. Почему-то решили пойти в больницу втроем. Взяли такси — и полетели! К их удивлению Леня сидел на кровати и играл сам с собой в шахматы. И ни о чем кроме шахмат и слышать не хотел.
Саша же прямо набросился на крикуна Володю.
— Володя, пойми, — он даже схватил его за больничную пижаму, хотя лицо Володи исказилось, как от зубной боли. — Пойми, что я тебе скажу!
Глаза у Саши вдруг полезли на лоб от собственной мысли, и он, наклонившись к ушку Володи, стал что-то шептать. Тот вдруг взвизгнул, отстранился, упал на подушки, и замахал руками: «Не надо, не надо, не надо!»
Ваня буянил около шахматной доски Леонида, не трогая однако фигур. Леня тем не менее не обращал на него никакого внимания.
— Не надо, не надо! — повизгивал однако Володя, словно забыв о боли.
Даже головастый — в три головы — Витя присмирел, хотя он и так был очень смирный. Мертво-плакавший больной, напоминающий труп, однако ж не унимался, и никакие ужасы и нашептывания Саши не могли вернуть его к жизни. Он все трупел и трупел, все больше уходя в свою трупность, и слезы уже не лились из его глаз.
Вдруг Леня — яростно и неожиданно — стал швыряться шахматными фигурами, в крикуна Володю полетел ферзь, в головастика — пешки, прямо к ногам, в окна посыпались кони. Больной-труп завыл, хотя в него ничего не попало.
Набежали сестры, дежурные санитары, пришлось унимать физически. Леня ослаб, но вдруг откуда-то взялась в нем дикая сила, он кусался, бился и его еле уняли под конец. И все время он молчал, все молчком и молчком.
— Такой молчаливый, а дерется, — вздохнула нянечка.
Детские глаза трехголовастого отказывались верить самому себе…
…«Проклят этот мир, проклят — упорно потом вспоминала Люда всю эту историю. — И жизнь коротка, и насмешка она над землей и людьми, и плоть горька и страшна, и где бессмертие? Чем заглушить, чем заглушить боль?»
Страстно захотела увидеть сиротку Лизочку, у которой оставалась одна Россия, но оказалось, Лизочка уехала — в Сибирь, в глубь… Решила тогда Люда пойти в сумасшедший дом, но уже в настоящий. Через милого психиатра детского отделения познакомилась она с ее приятелем, который работал во взрослом отделении, причем бредовом и буйном.
Люда сама до бреда порой была охоча, а тут как раз все совпало. Побежала она к ним, к этим сдвинутым, чуть не сломя голову, чтоб заглушить жизнь бредом. Но не очень получилось все это. Видела она каркающих идиотов, воображающих, что они — ничто. Старичков, считающих себя молодыми людьми, лихими и забияками, хотя сами старички почти умирали, но для компенсации, словно сговорившись, хором убивали мух. Видела она неопрятного толстого человека, познавшего что он — дьявол.
— Диавол я, диавол! — кричал он громко, на весь сумасшедший дом, и бил себя кулаком в грудь от радости.
— Много у вас таких, с дьяволоманией величия? — подмигнула Люда психиатру.
— Больше простыми чертями воображают, — хихикнул врач в ответ — Самим-то считает себя у нас только Вася, — и он указал на толстяка. — Он у нас первый такой. Больше такой мании величии я ни у кого не видел. Все Наполеончики, Сталины, Ленины, Черчилли, Рузвельты — тьфу, мелкота. Говорить тошно. Только Вася у нас по-настоящему развернулся. Это ж надо, самим захотел быть. Обнаглел что ли. Вась, покажись, — добродушно обратился к нему психиатр.
Вася лукаво выглянул, но тут же посерьезнел и опять стал орать, как медведь в лесу:
— Дьявол я, дьявол! Все во мне есть! Дьявол я, дьявол! Хоть никто про это не знает! Против всех я!
Видела Люда также оцепенело-помертвевших от катотонии людей, проклявших этот мир, и так уже проклятый. Слышала стоны и вопли, рычание по-собачьи — и никакое милосердие не отвечало им…