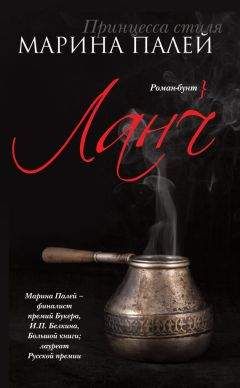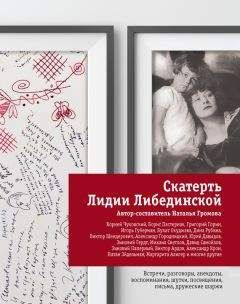По случаю события ужинали мы в гостиной. Это был прелестно сервированный ужин, и свечи, что она зажгла, как-то застенчиво мне улыбаясь, и ее милое платье, необычайно шедшее к особенно женственной ее прическе, — всё погружало меня в волшебные облака счастья, незаслуженного, если подумать. Даже draniki (уже в виде аппетитных и жирных, лакомо зажаристых лепешек) вполне пристойно выглядели на большом фарфоровом блюде; освещенные теплым розовым светом, они казались даже изысканно-экзотическими.
Тихо играл приличествующий событию, конгруэнто, то есть словно бы гармонично сопряженный с предстоящим пищеварением Моцарт (правда, наши знакомые и жаловались, что регулярное, во время выделения желудочного сока, потребление Моцарта, формирует стойкий условный рефлекс, когда уже сам Моцарт, услышанный в каком-либо месте, неподходящем для приема пищи, всякий раз вызывает внеплановое, но, увы, незамедлительное выделение желудочного сока).
В самый разгар нашего благоденствия я внезапно увидел себя в зеркале. В просторной гостиной было довольно темно, только островок стола освещался мягким сияньем свечей, и этот же островок ясно повторял себя в старинном, массивном, высотою до потолка, овальном зеркале, обрамленном буковыми амурами, розами и овечками. Я увидел себя сбоку, внезапно, словно со стороны; я не был подготовлен к этому показу.
Мое «второе я» сидело с набитым ртом, вцепившись одной рукой в тонкое запястье жены, а другой, что было сил, пыталось втиснуть в свое ротовое отверстие (уже наглухо перекрытое жирною, серой, полупережеванной массой) еще один толстый лоснящийся драник. Губы, нос, волосы, галстук, все было перемазано жиром. Жена, ласково повернув голову, взирала на мое обжирающееся «второе я» с библейским обожанием всепрощающей матери. Тем временем «второе я», вцепившись в запястье пианистки, быстро-быстро жевало, давилось, снова жевало, мелко-мелко тряся головой и издавая носом жирный звук «мымымы». Это было благодарное, слепое, вполне животное мычание, глухой и угрюмый оргиастический стон, какой издают, может быть, смертники, удовлетворив последнее свое телесное желание.
Всё произошло в одну секунду. Глядя в зеркало, я вдруг с обжигающей резкостью увидел себя ребенком, сидящим с сестрами и братьями за одним столом. Наш отец, как водится у бедняков, предавался кулинарии с особым рвением и строго требовал от нас, детей, громких радостных восклицаний, какими мы обязаны были сопровождать всякую миску с куском жареной говядины. Правдивей сказать, он требовал от нас именно стонов, утробных и громких сладострастных стонов, а если ему казалось, что мощь этих стонов не достаточна, то есть не окупает уровнем своих децибел сумму вложенных им усилий, он мгновенно превращался в тупое и злобное белоглазое животное, которое хватало ремень и яростно истязало всех нас без разбора.
Когда я развелся со второй женой, то есть на второй день после второй годовщины нашей свадьбы, я был еще далеко не стар. Однако я сразу и как-то бесповоротно понял, что больше не женюсь никогда. И, если быть более точным, больше не полюблю. Я часто вспоминал после этого вторую свою жену. Правильнее сказать, я думал о ней постоянно; думаю и сейчас. Безобразный мой образ, тот, в зеркале, был только частной проекцией этого мира. Моя жена, несмотря на свою пронзительную миловидность, принадлежала к этому миру так же, как я. Но я не могу любить существо, принадлежащее к этому миру.
Я думаю, что когда-нибудь все-таки встречусь с ней снова — это не столь важно, на Земле или где-то еще. В свете всего сказанного, даже лучше, если «где-то еще». Я пытаюсь себе представить, как же мы перенесем эту встречу после стольких (земных? а может быть, световых?) лет нашей разлуки. Мне всякий раз кажется, что лучше всего нам было бы сразу обняться где-нибудь в темноте, осторожно ощупывая друг друга, если у нас еще останется подобие рук.
А друг другу в глаза смотреть мы не будем.
До старости — мальчики, девочки, игрушечные человечки. Колечки, сердечки, словечки… Стоим на последнем крылечке. Поплачем, поплачем, затихнем. Мы в клеточке — канареечки. Нас ночка накроет платочком… Хлоп! — с жёрдочки поодиночке. Поплачем, поплачем. Затихнем.
Только не надо думать, что я не сознаю своего сумасшествия. Я отчетливо сознаю его, и уже на одном только этом основании, мне бы следовало активно его отрицать. Ведь медицина традиционно считает, что сумасшедший не имеет критического на себя взгляда и не понимает, что он сумасшедший. На этом же основании я мог бы приписать сумасшествие всему остальному миру.
Но я не делаю и этого. Не только потому, что это бесполезно, но, главным образом, потому что признаю его, этого чужеродного мира, полную автономность. Он живет по своим законам, и бог с ним. (С ним ли Бог?)
Однажды, кстати сказать, я навещал некоего своего знакомого, вкушавшего отдых от бренных забот в желтом доме. По правде, он там не вполне отдыхал, потому что, вскоре по прибытии на отделение, навалил на себя бремя новых забот, прав и обязанностей. Целыми днями, в драной розоватой пижаме, которая была ему как-то неприлично мала, он ходил взад-вперед по длинному коридору, угрюмо глядя себе под ноги, периодически хлопая ладонями — и вообще совершая такие движения, как при ловле комаров.
На самом-то деле он ловил голубых крокодилов. На его отделении, как он мне с неохотой признался, голубых крокодилов развелось великое множество; мешая порядку движения больных, они нагло летали над поверхностью линолеума.
Что же из этого следует? Что в нашем подлунном мире нет и не может быть голубых крокодилов, регулярно порхающих на психиатрических отделениях?
Именно такой вывод и сделали самые компетентные профессора из вышеозначенного дома скорби. Однако, да простят мне сей каламбур, в медицине существует еще кромешная тьма белых пятен. И таковой эта тьма будет всегда. Потому что современная наука, утратив связи с природой, не допускает простой аксиомы: если голубые крокодилы летают себе в сознании одного отдельно взятого человека, это означает, что они обязательно существуют где-то и в «объективном» («внешнем») пространстве, которое данный человек видит, а все прочие нет.
Летающий голубой крокодил в голове индивида никогда не возник бы, не будь такового же где-то «снаружи». Это похоже на звуки аккорда, которые существуют только вместе и только одновременно. Таким образом, наличие пернатого голубого крокодила в сознании субъекта однозначно доказывает существование некоего иного пространства, где такие крокодилы мирно летают себе испокон веков.
Так вот, к вопросу о белых пятнах в медицине. Повторяю: тот факт, что я вполне солидарен с окружающими, которые полагают меня сумасшедшим, ясно доказывает, что я здоров.
И, тем не менее, я — сумасшедший. Как быть с этой нестыковкой между наукой и практикой? Скорее всего, данный казус еще раз неоспоримо доказывает существование такого измерения, где я был бы, как все.
Мне, конечно, не следовало бы вот так, ни за понюх табаку, публично декларировать, что я сознаю свое душевное помешательство. По крайней мере, не в середине действия. Публика-дура обожает чувствовать себя умнее героя, ей приятно растягивать это удовольствие; за сладкое ощущение своего превосходства она-то и платит денежки, валом валя на зрелище, где по сцене отчаянно мечется лирический мудозвон, про которого сразу понятно, что он с прибабахом, то есть у него кумполок если и не с крокодилами, то уж с тараканами точно, а он-то, сирота, это сознает только под самый занавес, да и то не всегда.
Но мне скучно подыгрывать публике. Особенно в системе старой театральной школы.
Так что, находясь в здравом уме, повторю: я сумасшедший.
И все-таки я понял это не первым. Гораздо раньше, чем я, это усекли, разумеется, на моей службе. И, вежливо покашливая, уволили.
По выходе мне дали некое пособие; кроме того, моя теперешняя квартира, та самая, где я приходил в себя после показа (и где, по сути, оказался после второго развода), была в тот период переполнена всевозможной мебелью, большей частью антикварной, которая буквально наглухо забивала все комнаты и которую я понемножку, в критические моменты, распродавал.
Со службой, цитируя классиков, «было решительно покончено». Как и подобает нормальному сумасшедшему, я незамедлительно взялся писать некий Трактат. Мой мозг не отдыхал ни днем, ни во сне, подушка плохо всасывала усталость, в течение ночи я десятки раз вскакивал, лихорадочно записывая некие фразы, потому что фразы эти, разрозненные по смыслу, но совершенно законченные, стилистически безупречные, захватывающие своей виртуозностью (и, кстати сказать, не имевшие ровно никакого отношения к тому, что я писал или намеревался написать вообще), одна за одной, в готовом виде, а главное, на огромной скорости, вставлялись мне в голову. Под утро я чувствовал себя обескровленным.