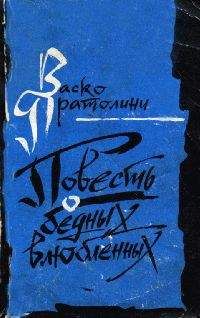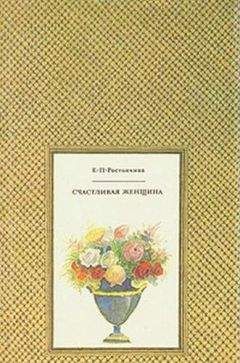Вчера во время свидания Джулио спросил у нее, что она собиралась сказать в тот последний раз, когда они виделись дома. И Лилиана рассказала, что в его отсутствие приходил Нанни «проведать покойника», но ей показалось странным, почему Джулио прислал его, не указан, где спрятано краденое.
Джулио ответил: «Правда, я посылал его. И все-таки, если Нанни тебя о чем-нибудь спросит, держи язык за зубами, как в полиции», Джулио мог бы этого и не говорить. Нанни всегда был ей не по душе. У него лисья морда, а взгляд такой, что все кажется, будто он примеривается, как бы ударить тебя исподтишка. Стоит Лилиане поговорить с ним пять минут, ей уже хочется бежать от него куда-нибудь подальше. Вот Синьора — совсем другое дело. Тут Джулио не прав. Синьора такая добрая, как родная мать! Если бы не она!… Разумеется, Лилиана передала Синьоре — слово в слово — свой разговор с мужем во время последнего свидания.
Держа мешок за спиной, Джулио спустился по лестнице. Прежде чем выйти из дому, он остановился у двери, желая удостовериться в том, что его никто не видел. Улучив удобный момент, он выскочил на улицу и быстро прошмыгнул в дверь угольной лавки. Из тех, кто был на улице, его никто не заметил. Но Джулио не подумал о том, что его могли увидеть из окон.
Семира, мать железнодорожника Бруно, видала, как Джулио вошел в угольную лавку. Она сказала сыну, который в эту минуту старательно завязывал галстук: «Кажется, Нези дал Джулио работу. Я очень рада за Лилиану». А из окна этажом выше Джезуина, находившаяся на своем посту, следила за всеми маневрами Джулио — с той самой минуты, как он появился на улице, спустился в подвал к Нези, и до того мгновения, когда он вышел из лавки уже без мешка.
Джезуина пристально глядела в окно и обо всем, что она видела на улице, подробно рассказывала Синьоре, сидевшей в постели. Это напоминало радиорепортаж: о футбольном матче.
— Нези делает Джулио знак — мол, следуй за мной… Они спускаются в лавку… А сейчас ничего интересного… Фатторе из Каленцано показывает Мачисте копыта своей лошади… Из гостиницы выходит Розетта. На ней новое платье. Ах, нет, это старое — лиловое. Должно быть, она его переделала.
— Сегодня базарный день, она подцепит какого-нибудь мужлана. Подумать только, ведь Розетта — моя ровесница!… А теперь что? Не спускай глаз с лавки Нези!
— Сейчас ничего. Дети Луизы играют с ребятами землекопа… В дверях лавки показался сын Нези. Лицо у него хмурое, недовольное, как всегда…
— А теперь?
— Теперь опять ничего…
— Клара не выходила?
— Нет. Но я вижу ее — у них открыто окно. Она п комбинации. Гладит платье — только что кончила его шить.
— А теперь?
Голос Синьоры еле слышен. Он напоминает слабое стрекотанье полуживой цикады. Только привычный слух Джезуины может разобрать, что говорит ее хозяйка.
— Фатторе прощается с Мачисте.
— Еще не заходил побриться?
— Как будто бы нет… Подъехал к кузнице подручный… Мачисте отчитывает его за опоздание.
— Как зовут этого паренька?
— Эудженио. Мачисте взял его на работу несколько дней назад. Он живет в Леньяйа. Ездит сюда на велосипеде.
— А теперь что?
— Ой, вот интересно-то! Нанни собирается войти в дом номер четыре. Может быть, уже вошел: я плохо вижу — это прямо под нами… Теперь ничего… Ничего…
— Не может быть! Следи все время за лавкой Нези.
— Я слежу… Бьянка вышла из дома…
— Как она одета?
— Как всегда, очень скромно. Вечно у нее болезненный вид.
— Отцу следовало бы давать ей побольше сахара, а то он кладет сахар только в свой миндаль. Девочке нужна глюкоза. Я помню ее еще совсем маленькой. Если она не изменилась, то, должно быть, стала красавицей. Болезненные красавицы часто имеют бешеный успех.
— Теперь Нанни вышел из дома номер четыре. Наверно, был у Джулио и не застал его. А сейчас идет к виа деи Леони… Пошел отмечаться в полицию.
— Ну, это не ново и не интересно. Гораздо любопытнее, о чем говорят сейчас Джулио и Нези.
— А, вот он, Джулио! Вышел из лавки. Побежал домой… Нези выглянул на улицу. Дает какое-то поручение своему сынку. Посмотрел наверх, в нашу сторону.
— Спрячься за жалюзи: пусть он тебя не видит.
— Я стою далеко. Если спрятаться, так я не замечу, когда Джулио выйдет из дома.
— Ты должна оставаться невидимой и все видеть!
— Ого! Джулио перебежал через улицу с мешком за спиной и юркнул в угольную лавку.
— С мешком?
— Да, с мешком. Должно быть, мешок тяжелым: Джулио чуть не растянулся.
— Мешок с углем?
— Нет, нет. Мешок чистый и наполнен только до половины.
— Гляди во все глаза, плутовка!
— Нези остался стоять на пороге… Озирается по сторонам. Джулио выходит из лавки. Они даже не попрощались друг с другом… Нези уставился на наши окна.
— Отойди от окна! Теперь Джулио пойдет отмечаться. Сдал «покойника» в надежные руки и будет себя чувствовать в полиции увереннее… Дай мне газету и позови сюда Лилиану!
— Синьора, вы думаете…
— Не твое дело, что я думаю.
Джезуина молчит. Синьора устала. Утро выдалось необычное. Синьора знает, что ей надо беречь свои силы. Горло ей сдавила «какая-то цепь», и Синьора глотает воздух, желая освободиться от этого чувства. Чтобы как-нибудь отвлечься от тягостных ощущений, она поправляет массивный золотой браслет, надетый на левую руку, ожерелье, свисающее на грудь, трогает кольца. Эти драгоценности Синьора носит лет тридцать, не меньше, и они словно срослись с ней, стали частью ее тела, единственной, на которую она может смотреть без грусти и отвращения. Синьора поглаживает драгоценности, как гладят кошку. Это и приятно и помогает сосредоточиться. Синьора размышляет. Она сидит в постели, прислонившись к подушкам; хорошо уложить их умеет одна лишь Джезуина. Пунцовое атласное одеяло, на которое выпущен край белоснежной простыни голландского полотна, прикрывает Синьору до пояса. Ее величественная, пышная грудь вырисовывается, как на портретах знатных дам XVII века. Темные краски в сочетании с белыми пятнами придают всей ее фигуре рельефность и выразительность. На ней свободное сборчатое платье цвета ультрамарина. На шее кружевной воротник оттенка слоновой кости. Такие же кружева и на манжетах. Горло — ох, уж.это горло! — прикрыто, как у царицы Савской, повязкой, доходящей до самого подбородка. Повязка черная с желтыми крапинками. К ней приколота брошь — большая, оправленная в платину камея.
Лицо Синьоры, особенно его выражение, пугает и завораживает. Иссиня-черные блестящие волосы разделены пробором и туго заплетены в косички, которые кругами уложены на ушах. Лицо поражает неестественной белизной: все оно, от корней волос и до самой шеи, покрыто, как гипсом, толстым слоем белой жирной пудры. Ярко накрашенные губы придают ему еще большее сходство с хорошо сделанной зловещей маской. Глаза с опухшими исками, затененные густыми длинными ресницами, напоминают две большие темные пещеры, в глубине которых свет то вспыхивает так ярко, что трудно смотреть, то словно гаснет навеки. Кожа дряблая, щеки обвисли, как уши у пойнтера.
Синьора размышляет. Выпростала руки из-под одеяла и поглаживает левую руку правой. Сдвигает кольцо с середины пальца до самого ногтя, потом не спеша водворяет его на место. Руки у нее длинные, худые, с узловатыми пальцами. Суставы пальцев похожи на крупные орехи, поэтому безболезненно снять и снова надеть кольцо — настоящая головоломка. Эта игра помогает Синьоре думать. Синьора размышляет. Джезуина приучена, не нарушать тишины, молчать, пока Синьора сама о чем-нибудь не спросит. Жара. Сквозь закрытые жалюзи не проникает ни малейшего дуновения ветерка. Знойный июнь обещает еще один мучительный день. Солнечный луч протянулся по красному одеялу, играет на отполированной спинке кровати черного дерева, увенчанной золотыми шарами. Над кроватью, на стене, оклеенной темно-красными обоями с золотыми лилиями, висит репродукция картины «Мадонна в кресле» [8].
Синьора думает. Ее мысли стройны и логичны. Даже вещи, которые ее окружают, говорят о любви к порядку и о здравом смысле. Комната обставлена только самым необходимым; здесь нет ничего лишнего и декоративного, экстравагантного и неоправданного. Зеркальный шкаф, два красных кресла, туалет, по углам стоят обитые красной материей стулья. Каждая из этих вещей используется по своему назначению и, конечно, прежде всего, — стоящий у кровати Синьоры ночной столик, весь заставленный пузырьками с лекарствами и стаканами. На фиолетовых занавесках вышит золотой лев с поднятой лапой. Половину стены напротив кровати занимает большой комод, на котором все безделушки, коробочки, веера, бинокли, лорнеты — расставлены и разложены так, что из «своего ада», к которому прикована Синьора, она может видеть каждый предмет в отдельности и в минуты дремотного покоя воскрешать в мыслях счастливые дни своего прошлого. Спальня была задумана и обставлена Синьорой, как «красная комната». Синьора пожелала, чтобы на обоях были изображены золотые лилии, а на занавесках геральдический лев «Мардзокко» [9], — это всечасно напоминает ей, что она во Флоренции, куда она приехала еще совсем молоденькой девушкой, где она любила и страдала, где «познала счастье и горе».