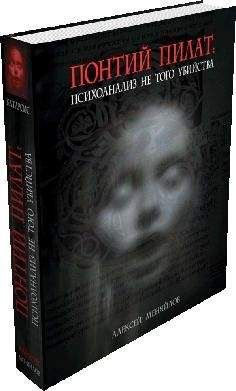И от чувства Понтийца наместник сделал шаг назад!
Всё было кончено. Эта перестала для него существовать.
Кому как нравится. Поговаривают, что на севере варвары опустились до того, что даже согласны, чтобы женщина лежала на спине. Римлянки же всегда оказывались на коленях и локтях — и для их мужчин нет ничего лучше. А вот на Востоке, в том числе и на Понте, мужчина наслаждается только на спине — и ни одна восточная женщина не согласилась бы поменяться с ним местами!
Неправильно, совсем по-римски выгнувшаяся женщина римлянкой быть не могла, — как может жительница Великого Города оказаться в известном квартале Иерусалима? — поэтому предлагаемый ею способ… э-э-э… общения, очевидно, говорил об её опытности — она угадала в нём скорее римского гражданина и должностное лицо Империи, чем торговца с Понта.
Он для неё прежде всего должность, а не живой человек!
Многие всегда и во всём — должность, но разве он, Пилат, таков?
Сейчас, ночью, он хотел быть — понтийцем! Со всеми полагающимися ему восточными ритуалами!
Разве ночь это день?
Этого, кстати, никак не могла понять его жена, во всём, в каждом своём движении оставаясь, к их супружескому несчастью, римлянкой. И хуже того — строгой. Ей, похоже, и в голову не могло прийти, что Пилат — всё-таки Понтий Пилат.
«Должность — не я!» — внутренне закричал Пилат. Закричал, разумеется, Пилат сокровенный, который был лишь частью Пилата, объединяющего в себе и наместника, и торговца, и мужчину, и мужа, и военного. Да так сокровенный закричал, что эхом отдалось — в его обители!
Ну что этой лунной гетере было не увидеть в нём нормального, стосковавшегося по женщине понтийца?! Ведь не могла же она при такой громадной луне не заметить его облачение восточного торговца?! Поступи она верно, и торговец с Понта не отступился бы — и она бы неплохо заработала.
Всё, что от неё требовалось мгновение назад, это не поворачиваться к нему… э-э-э… мечтой основателей Империй, но, чуть пружиня, волнообразно покачивая бёдрами чуть приседать, тем обещая услаждение его желаний. Только так: а одних только слов мужчине недостаточно.
Да, выбрать женщину — это искусство. Женщина должна уметь угадывать верно. Иначе это не женщина.
— Нет, — мстительно сказал Пилат лунной незнакомке. — Мне нужна — женщина.
И сделав ещё шаг назад, повернулся и пошёл — направо.
В обычаях кварталов любви было пойти прямо на неё, она бы дорогу уступила, но что-то помутило рассудок наместника — может быть, надежда, что её слова и стоны всё-таки правда? — и он поле боя уступил. Кому не свойственно жалеть тех женщин, которые только что объяснились в любви? Жалеющий уступает — и потому Понтиец теперь шёл по тёмному коридору безлюдной улицы. Шёл, предвкушая услышать за спиной звук сдавленных рыданий.
Но за его спиной стона не раздалось. Напротив, раздался… смех — да, оскорблённый, но не стон, а смех…
И — торжествующий?..
Но Понтиец не отметил этого придыхания торжества, а впустил только ожидаемую оскорблённость.
О да, её боль ему приятна.
Может, вернуться?
Но смех? Почему? И это при том, что она на нём не заработала! Если он был в этот вечер у неё первым, то его уход был приметой неудачной ночи вообще.
Она проиграла, но вдогонку — бьёт. Наотмашь. Свойство, присущее скорее римлянке, но не восточной гетере-провинциалке.
Торговец с Понта хотя и делал шаг за шагом, но как бы и не шёл. Да, он видел наплывающие контуры череды разрушенных зданий, подымавшейся луной высвеченные камни верхних кромок, но не чувствовал и не слышал. Он ещё был с этой женщиной, видел её—как же всё-таки женщины похожи! разве не в каждой угадываешь свою жену? — а в ушах пульсировал её смех. Может быть, это был уже не смех, а только заблудившееся в камнях развалин эхо, но и оно властвовало над Понтийцем, и потому весь тот кошмар, который неожиданно через несколько шагов обрушился на него из темноты проулка, особенно его потряс.
Шаг…
Смех! Оскорблённый!
Ещё шаг…
Она — смеётся!
Понтиец шёл по тёмной стороне улицы — намеренно, чтобы никто его не мог видеть, внимание должна была привлекать стена противоположная — серебрившаяся от лунного света. Если бы Пилат шёл там, то в тени оставалось бы только его тело, а видна была лишь плывущая серебряная, как у храмового божества, голова. Только без священных рогов — в кефи.
Не только военный, но и всякий человек знает, что тень всегда более безопасна: из тени в свет можно перейти без усилий для глаз. Но, шагнув из света в тень, слепнешь — пусть всего на мгновение, которого бывает достаточно, чтобы противник успел предоставленным ему кратким преимуществом воспользоваться.
Но ищущий любви шёл в тени по улице хуже чем безлюдной — согласно молве, заселённой духами-отмстителями, воплощавшимися в самые причудливые формы, и не мог даже предположить, что она опасней, чем это можно себе представить…
Шаг.
Ещё шаг.
Впереди угадывался провал поворота. Налево.
Если в него свернуть, то можно эту шлюху, не терявшуюся ни при каких условиях, видимо, обойти и, попав в нужный квартал кратчайшим путём, начать выбирать — женщину.
Шаг.
Провал ближе.
Не слышно ничего — только бьётся в ушах смех.
Столь неуместный в этих пустынных развалинах…
Смех женщины.
Женщины ли?
Шаг…
Смех…
Пилат, как и всегда, кратчайшим путём, чуть ли не касаясь плечом угла того, что некогда было домом, всем телом стал поворачивать за угол.
Шагнул в темноту зажатого между высокими стенами проулка.
— А-а!!..
Источавшее великую боль ещё и вцепилось!!!..
Руки? Человек?!
Разве может быть здесь — человек?
Тогда — нежить?
Да!
Ибо это был уже не человек, а только его тело — в предсмертных судорогах!
Да, то, что вцепилось в разом распрямившегося Понтийца, человеком уже не было. То, что от него осталось, ещё агонизировало, ещё цеплялось руками, но внутри его что-то придушённо клокотало — и Пилат знал, что означает этот звук.
Это клокотание — он, не раз бившийся в пешем строю, не мог спутать его ни с чем — раздаётся только тогда, когда лезвие меча или ножа, перерезав в теле кровяные токи, обрывает человеку жизнь. И неважно, что ещё бьющееся сердце толчками посылает кровь — к ране. Человек ещё шевелится, ещё может судорожно цепляться за оказавшееся под руками, даже за своего убийцу — но это уже не человек, а только то, что от него оставалось — агонизирующий труп.
Даже офицер легиона и тот бы оторопел от неожиданности, а у исчезающего, но до конца ещё не исчезнувшего торговца и вовсе все силы уходили на то, чтобы удержать равновесие не только самому, но и не дать обмякшему телу незнакомца рухнуть на землю.
Что это?
Как это могло случиться?
Ведь кинжал вонзили буквально за шаг до того, как он, Пилат, повернул в этот проулок!
Этот смех!
Ведь ничего же из-за него не было слышно!!!
Содрогавшийся труп обмяк и, распуская объятия, стал тяжело сползать на землю. Пилат, приученный в строю сопротивляться всякому движению врага, происходившему независимо от его воли, попытался удержать тело от падения тем, что резким рывком прислонил его к стене — спиной. Тело дёрнулось: голова трупа откинулась назад, в то время как спина к стене не приникла.
«Почему?!..»
Наместник было потянул на себя тело.
«Кинжал!..» — догадался офицер легиона.
Сопротивление агонизирующего трупа окончательно отрезвило Пилата от любовных мечтаний Понтийца — и мысль проснулась. Так случается с некоторыми в минуты великой опасности, скажем, когда убивают ближнего по военному строю легионера и ты оказываешься без прикрытия с фланга — спасти в такой, пока строй не успел сомкнуться, момент могут только удесятерение сил и сверхъестественная стремительность мысли. Пилат понял, что кинжал в спине жертвы оставлен и его торчащая рукоять и не даёт опереть тело о стену. Прижимая убитого к стене, он, Пилат, только ещё глубже этот кинжал вгоняет. И хотя для убитого это уже не имело ровно никакого значения — наместника его, помимо воли, соучастие потрясло.
И — вопреки своему обыкновению — наместник сделал шаг назад.
«Где же… они?!»
Убийцы должны быть рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки, в темноте проулка! Защищаясь от возможного нападения, Пилат мгновенно приподнял труп — что его вес для закалённого многолетней службой в легионе? — и подобно щиту отгородился им от темноты проулка.
Наместник сделал ещё один шаг назад.
Третий за этот вечер.
Тем, ещё не ведая того, что вскоре его ожидает, уже отказываясь от себя. Прежнего.