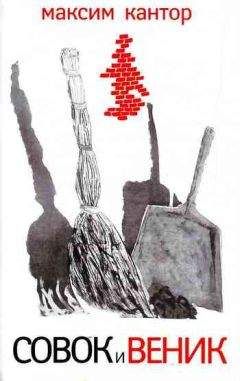Для меня был крайне важен предметный мир моего отца – точнее сказать, отсутствие вещей. Отец был бесконечно равнодушен к быту. Из всех благ и соблазнов он ценил только книги и канцелярские принадлежности – бумагу, блокноты, карандаши (то есть орудия труда). Его спартанское отношение к предмету сделалось основой моей эстетики.
Я люблю только простые и необходимые предметы – чашку, ложку, стакан, книгу. В мире, где я поселил своих героев, нет избыточности, все скупо. Например, в ранних натюрмортах я писал очень ограниченный набор предметов – убогий такой обед: сосиска, стакан кофе. Я формулировал про себя это так: я пишу «анти-голландский» натюрморт. Голландский натюрморт, это, как известно, изобилие и достаток покойной частной жизни. А в нашей семье все было как-то наспех, по-походному: съел сосиску – и сел к столу, работать. И натюрморты тех лет в точности отражают быт моей семьи, или, точнее, ее безбытность. Полагаю, это была сознательная установка, так именно отцу и хотелось жить, хотя окружающие могли подумать, что быт или заработки не сложились изза рассеянности, брезгливости к советской карьере. На самом деле отец даже не был брезглив – он просто не замечал того, что было не главным.
Главным он считал духовное общение – и когда он произносил эти слова «духовное общение», они звучали не высокопарно, но чрезвычайно естественно. Самым же презрительным в его словаре было слово «мещанство». Вероятно, это он унаследовал от своего любимого Маяковского.
Если отец говорил о человеке, тратящем жизнь на приобретение благ, он презрительно кривил губы, поднимал брови и удивленно спрашивал: «Неужели этот человек вещист?» Слово «вещист» – звучало как пощечина. Служить вещам, быть рабом вещей – то был худший приговор, который звучал в нашем доме.
Отец любил повторять строчки Маяковского:
Чтоб жить не в жертву дома дырам,
Чтоб мог в родне отныне стать.
Отец по крайней мере миром,
Землей по крайней мере – мать.
Он и был для меня всем миром, а в жертву дырам дома не было отдано ничего, хотя дыр накопилось предостаточно. Отклеенные обои, разбитое стекло лампы, сахарница с отбитой ручкой, треснутая чашка – вокруг был беспорядок, дом приходил в запустение, лишь стараниями мамы сохранялась чистота. Жизнь была подчинена одному закону: порядок только в бумагах и книгах – остальное неважно. Всю свою жизнь папа просидел за одним и тем же столом, залитом чернилами, на одном и том же стуле, с продавленным сиденьем. Ножка у стула была треснута и замотана синей изоляционной лентой, на этом шатком стуле отец проводил по пятнадцать часов в день.
Глядя на эту жизнь, такую беззащитную, не закрытую от времени ничем, кроме книг (ведь устроенный быт создает, во всяком случае, иллюзию стены между тобой и миром), я думал о том, что своими картинами я постараюсь оградить эту жизнь от времени. Я, если угодно, старался увековечить ее, эту безбытную жизнь.
Прекрасные лица дорогих мне людей – неужели они не заслуживают того, чтобы навсегда остаться в памяти, чтобы найти точные линии для их воплощения? Я хотел рисовать портреты – тех, кто не склонился перед эпохой, тех, кто воплощает достоинство, но рисовать черты таких людей в шутку – невозможно. Помимо прочего, призвание искусства – обессмертить то, что, увы, бренно, что подвластно времени и недугу, что может пострадать от произвола власти.
Я сотни раз написал лицо своего дорогого отца, его высокий лоб, резко очерченные губы, орлиный нос – я не знаю лица прекраснее. И всегда, когда рисовал его, я – против воли – думал и о том, что когда-нибудь напишу его последний портрет, в гробу. Долгие годы, когда отец болел, я держал в мастерской загрунтованный холст, готовясь к такому портрету.
Когда папа умер, я не находил в себе сил рисовать, но я должен был его нарисовать в гробу, и я поехал в морг, и договорился – мне позволили принести мольберт и краски, и в морге я написал два холста. Его положили на низкую скамейку, он был одет в свой серый пиджак, который я передал служителям прошлым вечером. Отец лежал передо мной, и мы продолжали говорить, как и всегда, когда он позировал. У него было спокойное величественное лицо, ему всегда удавалось быть величественным без всякой натуги – крайне естественно. Получилось и в этот раз. Я писал почти без ошибок, я вообще могу рисовать его лицо с закрытыми глазами. А в тот день рука совсем не дрожала, хотя я и не понимал, почему рука не дрожит.
Живопись – искусство открытое, живопись не спрятана от понимания ничем. В отличие от музыки, которая длится во времени, и требуется прослушать произведение до конца, чтобы вынести суждение; в отличие от литературы, которая также требует протяженного чтения, живопись предъявляет себя сразу – картину видно всю целиком, в единый миг. Эта открытость делает искусство живописи крайне уязвимым – кажется, что им может заниматься любой, особенно в связи с принятыми сегодня допущениями.
Друг юности, рано умерший и еще не оцененный по достоинству художник, Андрей Цедрик однажды в раздражении бросил великолепную фразу: «Везет же музыкантам: если кто из них сфальшивит, они могут сразу это определить и сказать: у вас, голубчик, слуха нет, не занимайтесь вы больше музыкой. А как быть художникам? Отчего считается, что у всех есть право фальшивить в линии и цвете? Это ведь так же точно режет глаз, как фальшивая нота – слух. Ведь у них (Андрей имел в виду окружавших нас новаторов) прежде всего нет глаза. Какое же может быть искусство?»
С Андреем Цедриком связаны прекрасные годы юности – мы бродили с ним по московским пустырям и свалкам, заброшенным дворам, ставили рядом этюдники. Мы искали мотивы, которые передали бы нашу жизнь. В письмах Ван Гога есть такая фраза: «Мотив содержится в самой природе, вопрос лишь в том, как извлечь его оттуда». Сходную мысль высказывал и Микеланджело, рассуждая о глыбе мрамора и о заключенной в ней статуе. В то время мы еще не сочиняли картин, но наша живопись была и не совсем этюдной – мы искали такой мотив, который претендовал на обобщение реальности. Мы бродили по Москве и старались вычленить из городских пейзажей то, что является символом времени, – странно, но рассуждали мы именно в этих терминах. Одним из таких мотивов-символов сделался пустырь, необжитое пространство меж домами, заброшенное и заросшее сорной травой. Первым стал рисовать пустырь именно Андрей – он поставил этюдник посреди пустого пространства и стал писать то, что перед глазами: обломок водопроводной трубы, кустик засохшей травы. Мне хотелось нарисовать пустырь не «изнутри», но «снаружи», показать его как социальное явление, как символ бытия. Андрей же писал так, словно проживал жизнь этого пустыря, строил свою картину так же, как сам пустырь зарастал травой.
Тогда, разумеется, о больших обобщениях речи не шло: нас привлекали такие странные уголки реальности, которые эту самую реальность неожиданным образом передавали полнее, чем парадные фасады. Андрей придерживался взгляда, что следует отдаться мотиву, раствориться в нем, он любил приводить историю о Курбе, который стал писать пейзаж, не вполне различая в сумраке, что именно пишет. Писал въедливо, получилось похоже на кучу хвороста – он подошел ближе: то, что он писал, действительно оказалось кучей хвороста. Иными словами, Андрей настаивал на том, что реальность сама не знает, что именно воплощает, надо отдаться ей, и тогда некое понимание соткется в процессе работы.
Мы спорили: я считал, что понимание диктует выбор мотива, и следует подчинить изображение знанию о предмете. Спустя много лет я довел эту метафору до полного воплощения, написав большую картину «Дикое поле» и «Люди на пустыре». Оглядываясь назад, я вижу, насколько этот спор находится в традиции платоновских диалогов. Впрочем, мы тогда уже читали Платона.
Андрей создал серию удивительных картин – он рано умер, не успев стать по-настоящему известным, хотя заслуживал восхищения и славы; я считаю его одним из самых значительных художников, встреченных мной в жизни; осталось немного картин – но их стоит изучать.
Андрей Цедрик был удивительным знатоком искусства; нет, не знатоком, это неточно сказано – он был обитателем искусства, жил в этом доме легко и свободно, говорил с другими обитателями как с равными. В одном из своих немногих интервью он сказал так: «Более всего люблю иконопись и крито-микенское искусство; среди художников нового времени ценю Рембрандта и Ван Гога». С какой великолепной свободой он относился ко времени! Новое время для него (и я полностью разделяю эту мысль) начиналось с того момента, когда авторитет иконы был утрачен, и потребовалось создать такое светское искусство, которое не уступало бы иконописи в осмысленности и высоте задачи. Прочие стилеобразующие факторы – дело вторичное. Отсчет времени идет оттуда, и вопрос до сих пор не решен. Именно так и думал Андрей. Соображение о том, что в нынешнем сезоне модны фотореалисты, а в следующем будут модны концептуалисты – было для него смешно. Но тогда именно так и строили свою карьеру рьяные молодые люди – они старались войти в самые прогрессивные ряды, с тем же рвением, с каким вступали некогда в комсомол. Стоило поглядеть, как Андрей беседовал с модной молодежью тех лет – он был мастером, в его присутствии несостоятельность модника делалась очевидной.