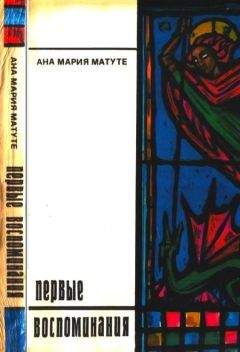И река… Она исчезла — как странно. Я помню, как река огибала поле, помню берега, поросшие мхом, и заводи, покрытые тиной, тонкие тростники, цветы — белые, желтые, лиловые; крохотные «мыльнянки», стрекоз, отливавших сталью на солнце; помню темные овраги и стволы, склоненные к земле, шаткий мост. Мы знали, что зимой река разливается и выбивает камни из стен. Но никогда мы не видели ее такой — переставшей быть, побежденной, исчезнувшей. Я знаю, что она снова появляется там, внизу. Я прочла ее название, я сама видела, как она течет под мостом и дальше — в долину, к садам и щедрым землям Риохи. Но это не наша река, не та река, которую мы помним. Не та, которая узнавала наши голоса и столько раз отнимала у нас, унося вниз по течению, то косынку, то сандалию. Я не знаю, куда девалась та вода, отливавшая зеленью и золотом, куда исчезли тенистые берега, заросли мяты. Говорят, что река осталась здесь — она в глубине, где вода разливается и поглощает все, становясь густого зловещего цвета. Я этого не понимаю. Но, может быть, и правда — в самой глубине еще живет эта река. И, закрыв глаза, я вижу ее — прежнюю, нетронутую. Золотую реку, текущую туда, откуда не возвращаются, — как жизнь.
Перевод Н. МалиновскойВ деревне, где люди живут и умирают медленно и спокойно, среди радостей, печалей, бедности или даже достатка, часто думаешь — как я сейчас, у этого нового кладбища с красными стенами и тонкими кипарисами, еще не успевшими перерасти ограду, — о том, как мы сами искажаем и укорачиваем жизнь. У кладбищенской стены, слишком новой среди осенних полей, и еще — глядя на круглый крестьянский хлеб, хрустящий и золотистый, я спрашивала себя — так ли живут люди вдали от этих затерянных селений, так ли они живут и умирают далеко отсюда, или это только еще одна ложь — из тех, которыми мы тешим себя, в которых незаметно тонем.
Здесь, в затерянной деревушке — десяток белых домиков, и нет ни кино, ни телевизора, ни газет, нет ничего, что в деревне не без иронии называют «городскими развлечениями», — здесь жизнь и смерть встают во весь свой рост, пронизывая странным покоем, я бы даже сказала — полной бесчувственностью, которая охватывает и заполняет собой все. Даже когда обрывается жизнь ребенка, здесь, на сельском кладбище, под выкрашенным золотой краской крестом и едва заметным расплывшимся именем, она кажется завершенной, четкой. Здесь эта маленькая беспечальная могила. И здесь, на крестьянском столе или в поле — круглый хлеб, суровый и нежный. Надо было бы жить хлебом, водой. Просто рождаться и умирать. Слушать, затаив дыхание, как воет ветер, спускаясь с гор мартовскими ночами, когда роса ложится на поля или сохнут травы, ночью — глядеть на небо, как эти люди, что говорят о волках, плохой зиме, заморозках и ранних ливнях; труд отдавать земле, любовь — ближнему, заботу — детям.
Я не хочу сказать, что в деревне не бывает зависти, пересудов, ненависти, горя. Все это есть, но за всем этим — ощущение человеческой общности, умение прощать. И еще то, чему не знают цены, — забвение. Стоит случиться несчастью — пожару, наводнению, болезни — как все селение приходит на помощь. Говорят, деревня — это чудовище, ведь в небольшом селении ненависть, зависть, обиды видны всем, будто написаны на лбу или на небе. Но эта жестокая четкость — земная, она делает жизнь проще, истиннее. Хлеб ежедневно объединяет этих людей — работой и трапезой, и они говорят: «Ладно, хлеб уже на столе, после поговорим» или «Там посмотрим».
Так приходит смерть. И снова я думаю о том ребенке, который там, внизу, в этой недавно перекопанной земле. Думаю о его жизни и смерти — таких кратких, но так надолго оставшихся во мне.
Перевод Н. МалиновскойВ тот октябрьский вечер, пронизанный светом, я пошла к скромной могиле с маленьким железным крестом. Там похоронен Пакито.
Я хорошо помню, как Пакито крестили. Я была тогда совсем маленькой. Сентябрьским днем, похожим на тот день, когда я ходила на кладбище, к нам пришла из селения женщина; она плакала. Мои родители собрались на крестины — отец должен был стать крестным отцом одной девочки, и женщина сказала: «Муж мой не хочет крестить ребенка, голову ему заморочили, совсем свихнулся. Если бы вы согласились и моему сыну быть крестным, муж бы спорить не стал — он вас уважает, побоялся бы обидеть». В тот вечер при всем народе — кругом сновали босоногие ребятишки и чинно стояли мужчины и женщины в черном — крестили двоих детей: Пакито и Фелису. Были и бумажные цветы — красные и желтые, и разноцветный засахаренный миндаль, и медные кропильницы, и прозрачные бокалы зеленоватого стекла, и скатерти, вышитые крестом.
Я страшно удивилась, увидев, что отец Пакито (тот самый, «совсем свихнувшийся», которого я воображала сатаной в берете) шел во главе процессии. Он был очень нарядный, в выходном костюме и белой рубашке, а перламутровая пуговица на воротнике переливалась, как жемчужина. Было видно, что он доволен. «Значит, не сердится?» — спросила я отца.
Пакито рос болезненным мальчиком, худым, неловким. Дети издевались над ним, пользуясь тем, что он слабый, — я видела, как однажды они чуть не погребли его, завалив камнями. Но он не казался печальным.
У него были большие круглые глаза, такие не часто встретишь. И все время он едва заметно улыбался — как-то понимающе и сочувственно. Он был молчалив, но любил разговаривать с моим отцом. Он любил отца, хотя вряд ли был привязчивым ребенком. Каждый год, когда мы приезжали в деревню, Пакито приходил к нему. Они усаживались друг против друга: отец на крыльце, на перилах, Пакито — на скамеечке. И разговаривали. Сейчас я очень жалею, что никогда не слушала, о чем они говорят, но хорошо помню, что Пакито не любил получать подарки. Он брал их нехотя, как-то покорно, с той же неуловимой улыбкой, и никогда не благодарил. Моему отцу Пакито нравился, я это видела по глазам.
Однажды, когда Пакито пил на площади, дети толкнули его, и он сильно ударился виском о трубу. Не знаю, как он не остался без глаза, но с тех пор на виске у него виднелся круглый розоватый шрам. На следующий год Пакито осиротел, и его старшие сестры, сами еще очень молодые, отдали его в приют. Там он, по всей вероятности, учился сапожному ремеслу. Мы не виделись года два, и как-то отец спросил у его сестры:
— Что Пакито?
Он посылал ему посылки, и я представляла, как Пакито получает их, — безучастно, с неловкой улыбкой.
Когда ему исполнилось тринадцать лет, его отпустили в деревню на праздники, помню точно — это было четырнадцатого сентября. Он подрос, но все равно был щуплый. К нам он приходил не затем, чтобы повидать нас, и даже любил говорить, что пришел «именно к моему отцу». Отец спускался по лестнице и не успевал еще сойти со ступенек, как Пакито, вытянувшись по-солдатски, протягивал ему руку. Я слышала их разговор:
— Ну, как дела, малыш?
— Очень хорошо.
— Ты, говорят, учишься на сапожника?
— Да, вот приедете на будущий год, я вам пошью ботинки.
— Нравится тебе ремесло?
— Да, на будущий год я вам пошью ботинки, мне уже разрешают.
— Да ты скоро мастером будешь!
— Вот увидите, какие я вам пошью ботинки.
Он нагнулся и толстым исписанным карандашом очертил на бумаге ступню.
— До будущего года, Пакито.
— До свиданья. Вот увидите, какие будут ботинки. Он ушел, простившись за руку и не взяв подарка. На будущий год Пакито не принес ботинки и не пришел повидаться с отцом.
— Как Пакито? — спросили мы у сестер.
Старшая сестра отвела глаза:
— Уж извините, мы вам и не сказали: умер Пакито. Да по правде сказать, немного он стоил.
Перевод Н. МалиновскойВисельной горкой называли холм на краю старой Мансильи, у древнего скита святой Екатерины.
Детьми мы часто лазили на Висельную горку. Говорят, в прежние времена там вешали осужденных. Мы искали кости, обломки черепов, но все впустую. Все камни, более или менее напоминавшие, а иногда и просто поражавшие сходством с астрагалом, берцовой костью или черепом (пусть даже черепом карлика или гнома), мы берегли как зеницу ока, спорили из-за них, выменивали, чтобы потом устроить у себя в парте несуразное, ни на что не похожее кладбище.
Дети не понимают смерти, но зачарованы страхом, который окутывает ее, как туман — тонкий и пронизывающий. Дети боятся мертвых, но все равно тянутся к ним. Жаркими летними вечерами дети пробираются в самый дальний угол кладбища и там, у церковной стены, роются в богатой и жуткой кладовой смерти. Дети убивают птиц, вешают собак, мучают кузнечиков, лягушек, летучих мышей — и все только затем, чтобы своими глазами увидеть, своими руками потрогать смерть. Это она поражает и завораживает их, это от нее они прячутся, укрываясь с головой, в ненастные ночи, когда воют волки и кричит сова, это ее вести они жадно ловят, слушая рассказы о происшествиях: пожаре, автомобильной катастрофе, о бродяге, замерзшем в канаве. И разве не они прибегают первыми, когда случается беда, и застывают с раскрытым ртом, не отрывая глаз?