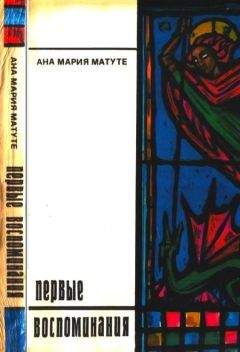С давних пор в канун андреева дня дети Мансильи сжигают на Висельной горке алькальда. Из старинной книги я узнала, как зародился этот обычай. Был будто бы в Мансилье алькальд, который отказался платить дань графу; он сговорился с крестьянами, вместе они подстерегли сборщиков подати и убили их. Год был неурожайный, а подати непомерно велики. Обычно графа встречали «медом, орехами, сыром и рыбным пирогом». И вот со всем этим спустя какое-то время и вышло ему навстречу все селение. Но граф решил отомстить своим подданным. Он быстро нашел виновников и велел казнить. Их отвели на Висельную горку, троих повесили, а алькальда посадили на кол. Потом его труп сожгли. Я вижу — вот он горит, а кругом валяются остатки снеди, приготовленной к пиру: куски податного пирога с рыбой, орехи, мед. Каким странным кажется мне это сейчас. А между тем дети никогда не пропускают этот день.
Они ходят за хворостом, потом собирают по домам «старье для костра», как в кавун Иванова дня. Я спросила их:
— Зачем это?
— На горку!
— А зачем?
— Алькальда сжигать.
С большим трудом добилась я того, чтобы мне объяснили. Объяснили то, что для них во всех отношениях важнее пелоты[12], рыбной ловли, даже важнее полдника, которым их кормят в этот день в муниципалитете. И вот что сказал мне Луис, черноглазый одиннадцатилетний мальчик, болезненный и не по годам рослый.
— Встанешь там, наверху, на горке, смотришь кругом и думаешь: отсюда на эти самые горы, на эту реку смотрел алькальд — в последний раз. А если бы это я?
Я удивилась этой мысли у одиннадцатилетнего мальчика. На другой день я пошла с ними: увидела ту самую реку, оцепенелое поле, отчетливый контур гор и небо — как натянутый ветром парус. Вспыхнул костер, и я подумала, вздрогнув; «А если бы это я?»
Перевод Н. МалиновскойПохороны ребенка всегда драматичны. Но в этих селениях, затерянных среди гор, дубовых и буковых лесов, похороны ребенка напоминают древний мистический обряд. Я бы даже сказала, что здесь в похоронах ребенка воплощается целая религия, замкнутый и завершенный строй мыслей и чувств. Смерть ребенка естественна и поразительна одновременно — как ливень, хлынувший на летнее поле в ясный полдень и растревоживший птиц. Как резкий взлет стрижей ясным утром. Как все то, что заставляет поднять голову, отвлечься от труда, досуга, мыслей.
К мертвому ребенку приходят проститься родные и близкие. А у ворот его ожидают, выстроившись в ряд, дети, которые вчера, позавчера или год назад играли с ним у реки или на площади у колоннады. За ними — нескончаемая вереница женщин. Крестьянки не часто говорят ласковые слова: разве что коровам, когда они телятся, овцам, когда ягнятся, и детям — когда они умирают.
— Прощай, голубь мой, прощай, светлый мой, прощай, роза александрийская…
Говорят будто вторят. Так говорили их матери и матери их матерей. Они унаследовали эти слова или сами угадали их. И этот похоронный обряд знали даже собаки — дворняжки, в которых швыряют камнями, и большие, спокойные псы, стерегущие стадо. Ритуал этой смерти — такой маленькой, таинственной и простой — как цветок шиповника, зацветший среди мертвого леса, обманутый осенним дождем и солнцем. Крест плывет над полем. Женщины воздевают к небу смуглые руки:
— Прощай, прощай, голубь мой…
Старик не плакал. Он тихо сидел у погасшего очага и шевелил палкой золу. Он не мог ходить и целыми днями сидел здесь — неподвижный, как ненужная мебель. Старик сказал мне:
— Гляди-ка, живой был, и нет его. Ну хоть бы зло кому сделал — ведь нет. А что мать на него орала, так ей это только на пользу — как пиявки. Он-то добрый был, про то и небу и земле ведомо. Такие и умирают. А мы еще поживем.
— Почему?
— Почему? Потому что на роду нам написано воевать, мучиться, из сил выбиваться, предавать, проклинать, потому что мука в нас земная, вот что. Соль в нас, горечь, огонь.
Старика считали сумасшедшим, но то, что он говорил, было хорошо. Я бы даже сказала, что его безумие было прекрасно. И мне нравилось его слушать:
— Незлобивы они, вот и уходят. А мы, злыдни, остаемся. И травят нас, и корежат, а мы жизнь каждый день у камней вырываем.
Он торжествующе взглянул на меня; глаза его были, как дым. Издалека, с кладбища доносились причитания, с холма — детское пение. Пахло тлеющей листвой, догоравшими ветками, хворостом. По сентябрьской траве процессия поднималась на холм, туда, где у ворот нового кладбища паслись белые и вороные кони.
Женщины вложили в рот мертвому ребенку бумажные цветы, убрали гроб лентами. Солнце круглое и зрелое, как плод, отражалось в стеклянной гробовой крышке. Старик повторил, и в его голосе мешались горечь и торжество:
— Мы еще поживем.
Перевод Н. МалиновскойОни появлялись на шоссе или спускались с гор — с повозкой, собаками и детьми, как цыгане или бродячие акробаты. Но они не были ни цыганами, ни акробатами. Хотя что-то в них напоминало и тех и других: чернота и блеск глаз, выразительные, как в пантомиме, жесты. Это были лудильщики. Мне не совсем ясно, что это за профессия: они паяют кастрюли, точат ножи, мастерят капканы и мышеловки, плетут силки и сети, чинят зонтики, если надо, могут подковать лошадь. Почти все умеют лудильщики. Старая жестянка у них в руках превращается в противень, комок проволоки — в мышеловку. Они умеют петь, танцевать, рассказывать истории и обязательно на чем-нибудь играют. Мужчины у них похожи на вождей племен, женщины смиренны и на удивление молчаливы, дети веселы и грязны. Собаки похожи на них: такие же ловкие, непоседливые и вороватые.
Лудильщики бродят по всей Кастилии вдоль и поперек. Никто никогда не знает, откуда они идут, куда. Сами они говорят, что у них есть дом — где-то неизвестно где, в каком-то селении, которое они описывают во всех подробностях. Лудильщики не любят, когда их путают с цыганами. Больше того — они относятся к ним с чуть заметным сознанием своего превосходства: «А, цыгане!..»
Если их дети пляшут, а после обходят зрителей, они говорят:
— Балуются…
И обижаются, если их называют циркачами.
Но что больше всего поражает меня в лудильщиках — это желание, чтобы их забыли, не узнавали. Если кто-нибудь, принеся в починку ружье или дырявую кастрюлю, говорит: «А вы у нас два года назад были…», они разводят руками, нервно пожимают плечами:
— Мы? Да нет! Мы здесь не бывали.
— Да как же! Я хорошо помню! И повозку, и коня помню, и мальчика старшего!..
— Нет, вы обознались!
Они не воруют, нет за ними ни преступлений, ни злодеяний. Разве что дети вытворят что-нибудь, и все. Откуда же это упорное, постоянное стремление не остаться в памяти? Может быть, оттого, что они покидают свои деревни, свои дома, своих друзей и родных и уходят куда глаза глядят?
Когда лудильщики умирают, их хоронят в пути, в каком-нибудь селении, на затерянном деревенском кладбище. Они не говорят своих имен:
— Как его звали?
— Томас…
И к имени ничего не добавляют. Вдова, сын молчат. Или пожимают плечами — настороженно, гордо, и глаза их, обычно веселые и блестящие, странно темнеют.
Из селения в селение ходят по дорогам лудильщики, унося с собой тайну, которую мне хотелось бы разгадать. В ней отсвет счастья, которого нам не понять, прекрасное и вольное понимание жизни, недоступное нам. Пусть забудут, путь не узнают — пройти — и все, просто пройти по длинной дороге, неизвестно откуда и куда. Пройти, впитывая солнечный свет, жар костра, шум ветра, крики птиц, смех детей. Пройти и сказать: «Забудьте меня. Меня нет. Меня никогда здесь не было. Я не вернусь». У них своя тайна, как у ветра. Своя тайна и своя мудрость, древняя и далекая — как солнце.
Перевод Н. МалиновскойПастушонку восемь лет. Я не поверила, когда мне сказали, что он встает в пять утра, а идти ему далеко — волчьими тропами через вересковые пустоши и дубовый лес. Около полудня или чуть позже он приходит обратно. По утрам он помогает отцу или один пасет стадо, а днем его сменяет отец.
Иногда я видела, как он возвращается дорогой из Умбрии — медленно, придерживая котомку за ремень. Обычно он молчит и все думает о чем-то. В школе он бывает только тогда, когда нет других дел. Осенью дождь почти не перестает, и пастушонок ходит весь мокрый, длинные черные пряди прилипают ко лбу. Кажется, он не чувствует ни холода, ни жары, ни голода, ни жажды. Он другой, не похожий на нас.
По вечерам мы собирались и рассказывали сказки. Пока погода была хорошая, сидели на улице до первых звезд. Когда наступали холода, собирались в доме, у огня. Пастушонок подходил робко, неслышными шагами. Он стоял, слушал, но, если можно так выразиться, — непричастно. И почти все время улыбался — едва заметно, недоверчиво и чуть насмешливо.