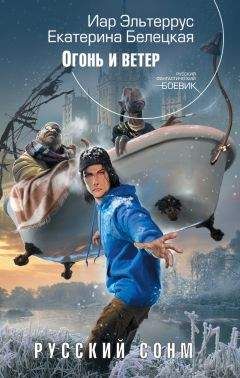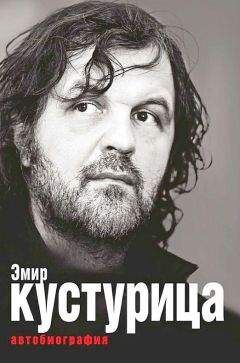«А потом, кто из нас действительно тень? Вот ведь, стоим мы по обе стороны моей выбритой щеки, чей глянец — рубеж меж свидетелем и слепцом, Лимб поодаль моего Рая. Залог этой границы — троицу лезвий, в каждом по три ножа с кисельной, витаминовой, для одобрения эпидермы косой, — сжимаю я в кулаке: кусочек, обол, обелиск, на который мои — Люциферовы! — отпрыски силой выменяют Божьи, мидийские, золотые доспехи славно успевшей Родительницы Богов».
Нежно ёкнул холодильник и засеменил по линолиуму на своих четырёх лапах, точно ступая резиновыми наконечниками отроческих стрел, — мои никогда не присасывались, но как они впивались, стоило лишь заощрить их ножом, предназначенным чинке чинного дедовского пера! Дом, отходя ко сну, позёвывал, — пьяненько скрежеща гаражными воротами, — урчал миролюбивее, сообразуя свой кишечный вальс с вибрацией чёрночревой, с малиновыми прогалинами фонарей, американской ночи, поглотившей его до поры до времени, как самосатским лжецом у Ионы позаимствованный кашалот — бригантину.
«Значит, завтра из О’Хары (Алексея Петровича всегда так и подмывало усугубить это финикийское ругательство, прокравшееся в воздушную гавань Иллинойса), в пятнадцать». — Отец оставил стакан в покое. Вино, как и следовало ожидать, сей же час застилось пеленой — вестницей бури, которая не разразится никогда. Поднялся. Судорожно. Косноязычие и безъязычие. Ступор властвовал отцом, шуровал им, как гефестовыми девами, механизируя жесты, прижимая его к Земле, делая бесполезным сопротивление пузырям воздуха, пучащимся в желудке с нарочитой менандровой настойчивостью. Молчание без еженедельного распятия и крестных мук — вот дьяволова ниша на телах рас-асгматиков!
Алексей Петрович завладел, щепотью взявши его за лодыжку, стаканом: «Вот он, герб моей семьи», — и тотчас набегали, дробно, с мачете за чоботами, вопросы, татебные, издевательские: «Семьи? Чьей? Кто он?». От них нетерпелось отвернуться, и Алексей Петрович, оставивши стекло («Грузнее древнего «сткла» — тяжкий его удар о стол, лишение и «омикрона», и «омеги»…» — накатила, как давеча в ванной, волна), поглядел в окно. За расцветающей изгородью, в световом, надвое рассечённом сосновым силуэтом овале притормозил, урча громче отцова дома, фургон цветочника, распахнувши с черепичным чоканьем дверцу жёлтого садового цвета.
Ворсистый параллелепипед палисада скрывал нижнюю часть автомобиля, но, судя по тому как фургон прекратил трепетать, и как рядом с ним проплыла на славу окученная, почище горациевой, лысина, там происходила жаркая сделка, чьи обрывки (дискант с русским акцентом наперевес, шёл на альт, полоняя его) доносились подчас до Алексея Петровича. Он силился вслушаться в эти миксерные звуки, осмыслить их, словно распиная Слово по жалкому, залежалому журналу. Ничего не выходило! Лишь дрожал бурый мех покамест недоступного зубам стекла, да тучи беспрерывно покушались на вовсе диканьковский, однако изрядно разжиревший месяц, побивавший (будто поэт в потасовке с тассовыми выкрутасами) диалектическое безбожие. От этого единоборства щекотало под ложечкой вовсе исступлённо, полно чувствовалась смертоносная опасность, когда вдруг вырастает, ветвясь, дар, и златокудрый гений обращается к нему, как к Богу, на «Ты», хорошенько прописавши перекладину понебеснее.
Наконец, фургон шаркнул (точно откланялся благовоспитанный недоросль) дверцей — раз, другой, — загудел, фыркая на первых порах, прочь. В прихожей всхлипнуло, осветилось, и Лидочка вбежала, радостно задыхающаяся, с неповоротливыми каплями на предплечьях и шестью ночными фиалками во французской, от потопа спасённой бутылке Алексея Петровича. Похохатывая, словно заражённая ночной неистовостью, она чмокнула, звонко, будто отвесила пощёчину, Алексея Петровича, морщинистым, гуттаперчивым ободом своего рта — тлен, плен, леность души… — распихала букетом стаканы, сгинула, и, словно в ответ на её исчезновение, в прихожей вдруг заговорило: виноватый, простуженный горем баритон всё спотыкался об осчастливленный дискант, голоса пестрели, переливались речитативом, множились, будто покоряясь напору хормейстерской десницы. Алексей Петрович запоздало рявкнув благодарность, отодвинул, брезгуя контактом с влагой, дребезжащий букет к самому центру стола. Вот она, Пифия-пуповина, дышашая луговиной. Не уберёгся. Разбухшее рейнское русло отклеилось, пойма реки плотно прилипла к сухой подушечке безымянного пальца Алексея Петровича, — и, молниеносно слизанная, скукожилась, заполнивши волокнистым комочком провал меж резцами. Так бы и жевал его бесконечной жвачкой — исконная человечья ностальгия по дару забвения: отрыгнись, мол, икотовым кайросом, и, сызнова перемолотое зубами, — в желудок, это седалище души. Не удержался и проглотил.
В прихожей отец с Лидочкой, извлёкши новые голубовато-серой кожи мужские туфли с американской шириной мысков, фаршировали их колодками «Gallus, since 1880»; четыре ступни вяло притоптывали, передавая усердие прочих частей тела, дополняли друг дружку до пары ворсистых овалов, разваливающихся и снова наполняющих кроличью форму. Алексей Петрович расколол было их совсем пожеланием доброй ночи, но, глядь, — опять срослись овалы из одинаковых шерстяных носков, начисто прячущих у Лидочки место, всечасно выискиваемое им с пушкинской настырностью у женщин, — будь они хоть нагишом. Не разнять их теперь, пичкающих проолифенными колодками поначалу привередливую, но затем смирившуюся с диетой обувь. Что ж. Алексей Петрович в последний раз поднялся по ступеням отцова дома, и даже на лестнице Лидочка настигла его своим тяжким дыханием, с шипом из поместья Сток-Моран (о эти тропы, портупеями взбирающиеся на Эдемову гору, где в поисках познания скитается разжиженная викторианством саксонская свирепость!), — напрочь забивая все пазухи души.
Вместо мысли о предстоящей, сейчас куда более десятилетней разлуке с отцом, Алексею Петровичу было легко: отталкивая Мэри с трогательно виющейся серебристой спиной и отгоняя сумасбродную певучую связь Ялты с благоуханно, как провинциальная барышня, увядающим цветком, а пуще, пытаясь разделаться с вовсе неотвязным «консоме», точно он — не вдосталь набегавшийся по Америке Алексей Петрович Теотокопулос (которого французские, зацикленные на отцененавистничестве функционеры кликали подчас несуразно-гибридовым именем — Пападуполусом), а смиренный галл-буффон (не от быка, но — жабы!), хлебающий бульон в Третьем, ещё оладьево-колокольном, Риме. Да и верно ли, Филофей, что четвёртого не бывать?
«Смерч! Что может быть краше тебя! Ярость! Славная! Замри! Кажи себя Праксителю! Ваятель, глянь-ка сюда. Я тут! Вот же я — цельная русская тройка: Отец, Его терезвое Дуновение, и я, Лёшечка, воплотивший всю Троицу! Пьянством! Распните же меня троегвоздием — один, наидлиннющий, прибереги, катушка, для моих хрупкокостных, словно рыбий позвонок, стоп — всё тебе отдам, Сирена Тарантелловна!.. — кабинет отца: битая солнопись хорохорящихся прищуренных пращуров, кичливо острящееся коричневатым зубом мудрости треснутое стекло да трёхпалый след глины на кипе принтерных листов. От всего этого спасение — в забытьи».
Впервые Алексей Петрович спал крепко на этом континенте. Погрузился он в сновидения запросто, без лицевых предгрёзовых корч, будто соскользнул, благо удерживали его на поверхности лёгких, точно лунных вод, устрашающим скрежетом об одеяло — первые всходы щетины: сумки, ранцы, рюкзаки и ангельские крылья, но не привычные джоттовые, трёхаршинные, гипертрофированные райской мускулатурой, — а как шашки, фукнутые с предрождественской базельской витрины, когда потомки святотатственных тевтонцев (избежавших чудовищной пощёчины благодаря диалектально-банковскому лимесу) украшают арийскоскулых истуканов пухлявыми хлопковыми клоками, претендующими на перья; бледноголубоглазая Swiss White из бутика «Orwell» взмахнула своими слаломщицкими членами, пришпиленными прямо к апельсиновой куртке на пуху, плавно вспорхнула, розовый свет заструился сквозь неё, и Алексей Петрович камнем канул в океанские недра, — видно, фарисейский равви повелел лапидацию Уранида!
* * *
— Г-а-а-а-а! Га! — Хы — хы — хы — хы! Ха-а-а-а! Га-аай! — шутя разодрал гогот с глоссолальным хором тяжесть солновых вод, исторг Алексея Петровича на пляж средь пежистых клешневых тварей, впаяв его в гелиосов столп, тотчас принявшийся распадаться на куски, рукотворствовать многоногое тело и этим телом вставать, с виртуальным, но чётким ржанием, на дыбы. — Га! Га! Га! Га! — продолжали верещать негры, словно зазывая Мать, да одновременно её же и измеряя. Алексей Петрович, подставляя губы под причастие, замер посреди застигнутой врасплох комнаты — точно шмелём вплавленный в замысловато отшлифованную волнами ятребу янтарного ятрышника, некогда выплаканного на фаэтоновой тризне. И, как ни странно: солнечный ток, влекущий сейчас Алексея Петровича, являлся ответвлением ураганного хаоса, ночью носившего его в непроглядной мгле.
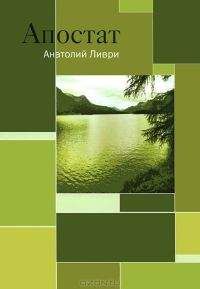
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)