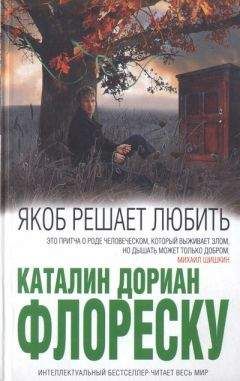— Силушки в тебе вроде прибавилось, так ведь? — спросил он.
— Конечно, посильнее стал.
— Это потому, что тебя тут хорошо кормят. Но если сидеть на месте, только растолстеешь. Хочешь стать толстым и ленивым?
— Нет, не хочу.
— Будешь целыми днями сидеть без дела, так и случится. У тебя такой живот отрастет, что ты конец свой видеть перестанешь.
В глазах попа сверкнула хитринка. Я смущенно уставился на него.
— К тому же Господь не любит лентяев. Лень — это грех. Ты согласен, Якоб?
Я кивнул.
— Тогда скажи-ка, что ж ты ничего не делаешь-то? Ты выздоровел. Но здоровье нам Бог одалживает, милый мой. Кому оно больше не нужно, у тех Господь его забирает.
— Скажите, что мне делать, и я все сделаю, — ответил я.
— Что ж, Якоб через «с», ты католик. Так я предполагаю. — Я промолчал и опустил глаза. — Значит, в церковной службе ты мне помогать не можешь.
— Я буду делать все, что пожелаете, только не выгоняйте меня.
Батюшка о чем-то размышлял, некоторое время расхаживая по комнате. Наконец решившись, он схватил ключ и сунул его мне под нос:
— Я знаю, чем ты можешь заняться. Иди за мной.
Он взял керосиновую лампу, и мы спустились в подвал.
Чем глубже мы спускались, тем сильнее пахло гнилью, так что дышать стало почти невозможно. Отец Памфилий отпер замок и толкнул тяжелую дверь — она открылась с таким трудом, будто за ней хранилось золото, а не какая-то ерунда, которую поп собирал в лесу. На миг я и вправду поверил, что увижу золото. Я только в сказках читал, как выглядят такие места, где лежат кучи золота до потолка вперемешку с рубинами, изумрудами, сапфирами. Как они сияют и сводят с ума людей, увидевших это. Я надеялся увидеть сокровище, но не такое.
Когда отец Памфилий подвесил лампу под потолок и разрешил мне зайти, я в ужасе отшатнулся. Весь подвал был забит человеческими останками. Вот что таскал сюда священник. Некоторые мешки были пусты и ждали нового груза, другие — упали, и из них высыпались кости разной величины и формы. Батюшка явно не справлялся со всей работой.
Несколько костей были отмыты и поблескивали желтовато-белым на столе в середине подвала. Кости лежали и в ведрах. Другие, все в земле и грязи, были сложены кучами на полу, многие были сломаны или раздроблены, словно над мертвыми учинили большее насилие, чем над живыми. Среди костей попадались и черепа, проломленные, расколотые, но были и совсем неповрежденные, будто покойник только недавно улегся в землю.
На другом столе, который я заметил не сразу, отец Памфилий собрал из найденных фрагментов почти целый скелет, не хватало только одной руки и ступней. Тем временем я уже освоился и разгуливал по этой своеобразной ремонтной мастерской, прямо как по нашему кладбищу. В таких местах, в окружении множества покойников, я чувствовал себя в своей стихии. Батюшка за все это время не произнес ни слова, он стоял, прислонившись к стене и поглаживая бороду. Он наблюдал за мной, пока я поднимал один из черепов и крутил в руках или вынимал из мешка кость и тоже внимательно рассматривал ее.
— Ты не боишься смерти? — спросил батюшка.
— Смерти боюсь, а мертвых — нет.
— Это очень хорошо, потому что страх может только помешать.
Я понял, что прошел какую-то проверку или испытание, однако не знал, для чего. Что делал отец Памфилий со всеми этими костями и почему все время выкрикивал через реку числа, как будто речь шла о яблоках, купленных на рынке? Но особенно меня мучил вопрос, откуда все это взялось. Это не могли быть останки местных жителей, ведь при такой смертности деревня давно опустела бы. Батюшка каждый день таскал кости, словно воду из какого-то тайного, бездонного колодца.
Когда мы поднялись из подвала, он снова налил нам цуйки. Еще одно воспоминание той поры — мы постоянно были под мухой. Все время находился повод опрокинуть рюмку цуйки или стакан вина: дождь или окончание дождя, канун очередного церковного праздника или сам праздничный день; благодарность Господу за обилие, что Он даровал нам, или необходимость довольствоваться малым.
Вино мы пили после каждого крещения или венчания, а цуйку — после каждого покойника, по которому батюшка служил панихиду. Ибо, по его словам, цуйка хранит нас от смерти, а вино — помогает жить. Так что я никогда не бывал абсолютно трезв и, возможно, только поэтому счел предложение отца Памфилия разумным и логичным.
— Уже сорок лет я раскапываю здесь кости, и конца этому не видно, — сказал он. — Гора ими битком набита. Крестьяне суеверны и потому не ходят туда. Доходят, в лучшем случае, до моего дома, но дальше не решаются. Каждый день появляются новые кости, иногда в том же месте, где я копал накануне. Бывает, они торчат прямо из земли, нужно только вытащить. Как будто гора порождает эти кости. Ну, ты сам увидишь.
— Я? — удивился я.
— Мне нужен помощник вроде тебя. Ты пока еще не так силен, я знаю, но и я был такой же, когда меня совсем молодым послали служить сюда. Работы было немного. Что тогда, что сейчас. Кто-то умирает, кто-то женится, а между всем этим остается уйма времени, чтобы сойти с ума от скуки. Поэтому я стал гулять по окрестностям, пока однажды после грозы не споткнулся о бедренную кость. Вот тогда я и начал копать и до сих пор не прекращаю.
— Что вы делаете с этими костями? — спросил я.
— То, что велит мне долг. Мою их, собираю в скелеты и хороню по нашему христианскому обычаю.
— Почему же тогда они копятся у вас в подвале?
— Иначе никак, пока река не позволит перевезти их на другую сторону, там у нас церковь и кладбище. Гиги делает для каждого отдельный гроб, так положено. Работы хватает, тут ему грех жаловаться. Он не поспевает за тем, как я копаю. Когда появится возможность все перевезти, подвал опять освободится.
— Так вот что вы кричите через реку? Сколько гробов ему делать?
— Да, так и есть. Смотря сколько скелетов я успел собрать за день.
Отец Памфилий разулся, снял штаны и рубашку, повесил их на спинку стула и встал перед иконой. Он поклонился и несколько раз привычно перекрестился, как и положено человеку, который всю жизнь только и делал, что заново хоронил мертвых, пил цуйку да осенял себя крестным знамением перед Святой Богородицей, Господом Богом и перед каждым святым в отдельности.
Я удалился в свою комнату, тоже разделся и лег в кровать. Батюшка погасил лампу.
— А почему Гиги этим занимается? — спросил я в темноте.
— Гиги? Он цыган, из окрестностей Трибсветтера. Раньше он был важным бульбашой, но жена его обесчестила. Больше он никогда ничего не рассказывал. Если попытаешься выспросить, рискуешь расстаться с жизнью. Он говорит, что помогает мне, чтобы искупить грех. Но что за грех, этого даже я не знаю.
Я был так ошеломлен тем, что нашел мужа Рамины, чей призрак сопровождал меня все детство в ее рассказах и которого она проклинала при каждом упоминании, что даже прослушал следующий вопрос батюшки. Я пришел в себя, когда он уже стоял босиком в дверном проеме.
— Да что с тобой? Тебе плохо? — спросил он.
— Нет.
— Так что ты скажешь?
— О чем?
— Хочешь ли ты стать моим помощником? Когда я принес тебя в дом, ни живого ни мертвого, я знал, что Господь послал тебя мне в помощь. Думаю, поэтому он и не дал тебе умереть.
— А если я скажу «нет»?
Казалось, он смутился, словно не предполагал, что я могу отказаться. Он долго размышлял, прежде чем ответил:
— Тогда тебе придется уйти. Мне здесь тунеядцы не нужны. А другой работы у меня для тебя нет.
Так я на несколько лет стал носильщиком костей, помощником отца Памфилия в искусстве отнимать у земли человеческие останки, пролежавшие там, может, сотню, а может, и тысячу лет. Мыть их и готовить к переправе через реку. Да еще каким усердным помощником.
* * *
До самого июня река оставалась непреодолимой преградой. Когда на том берегу кто-нибудь умирал, его укладывали в гроб и отправляли в дорогу к нам. Мы перетягивали гроб на веревках — нелегкая работа, когда против тебя неукротимая сила потока. Иногда покойник тянул нас вниз по течению, мы спотыкались о камни, лезли через кусты, и лишь с большим трудом удавалось вытащить гроб на берег.
Отец Памфилий совершал панихиду прямо у реки, клал в гроб образок Святой Богородицы, а на лоб покойнику — бумажную ленту с надписью «Святый Боже, помилуй». Он накрывал покойника покровом, читал псалмы и помахивал кадилом с ладаном со всех четырех сторон гроба, потом мы переправляли его обратно к родственникам, и они несли его на кладбище.
Старых и больных людей, чувствовавших, что жизнь постепенно покидает их, тоже переправляли к нам, на плоту. На нем укрепляли стул, к которому привязывали стариков. Больных же укладывали на носилках. Однажды мокрая веревка выскользнула у меня из рук, и мы упустили старика на плоту. Мы бросились за ним вдогонку по обеим сторонам реки, еще чуть-чуть — и на берег пришлось бы вытаскивать мертвеца.