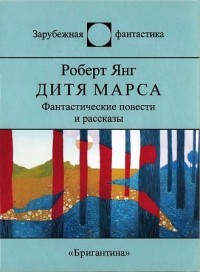С каждым днём росло во мне отчаянье, и теперь я шёл не на праздник, а будто восходил на костёр, в котором предстояло сгореть бедной душе моей.
В зале, хорошо известном тогда любому отечественному телезрителю, ибо там проходили съезды партии, нам, детям, показывали новые мультики, на сцене танцевали одетые снежинками девушки. Но я сидел в обитом красным бархатом кресле подавленный и безучастный ко всему, кроме своей беды. Разумеется, мне так и не удалось заставить себя получить в вестибюле второй подарок. Потолкался у столиков, попримеривался, да так и не осмелился. Неизбежность встречи с Нюшей нависла надо мною грозовой тенью.
И вот, наконец, настал ужасный час, когда действо кончилось. Детей повели в гардероб и на улицу. Вместе со всеми, но в то же время страшно одинокий, тоскующий вышел я из главного подъезда и тут, как ни был убит горем, заметил, что обстановка изменилась. Перед входом установили металлические, как в метро, заграждения; по образованному ими коридору всех нас под наблюдением служителей, тех самых, что раздавали внутри подарки, стали гнать в сторону, куда-то, кажется, на Соборную площадь. Однако я и несколько других малышей упёрлись. Ведь мы договорились встретиться с нашими мамами непременно вот тут, у подъезда! Как же мы могли отсюда уйти? Нас, конечно, пытались вразумить, говорили, что родители ждут на площади, однако всё было тщетно. Пять-шесть человек, и меня в том числе, оставили на месте, на небольшом пятачке, образованном загородками. И началось хождение по кругу. Мы, подчиняясь безотчётному чувству, двигались, как заключённые по тюремному двору, гуськом, в затылок друг другу.
На город быстро наваливался вечерний январский мрак. Задумавшись, я и не заметил, как постепенно остался один – других детей разобрали их встревоженные мамаши. Посыпал снег. Вдруг я увидел, что одиноко кружусь по закутку, и… заплакал.
Что было дальше, помню смутно. Нет, я не бился в истерике, не кричал «мама, мама!», хотя мысль о том, что мама бросила меня, пронзила мне сердце. Нет, я вёл себя тихо, и в этот момент… не знаю, как описать такое… что-то очень важное произошло со мною. Я… Нет, не могу.
Когда прибежала мама, она нашла меня ещё в соплях и с мокрыми глазами, но внутренне умиротворённого, почти отрешённого. Помню, я даже несколько высокомерно заявил, что от второго подарка отказываюсь, так как советскому ребёнку не подобает унижаться из-за сладостей. Мама не ругала меня, а, наоборот, целовала и утешала. Заплакала. Тушь у неё при этом размазалась, и она под фонарём долго тёрла лицо носовым платком, убирая остатки косметики. Потом взяла у меня оставшийся билет, отлучилась куда-то и быстро вернулась: в руке у неё алела заветная кремлёвская башенка.
Мы шли к метро, и я с удвоенным усердием налегал на шоколадные медальки.
«Боровицкая». Эскалатор.
Я внимательно посмотрел на маму.
Мюша и Нюша никуда не делись, но теперь они были вместе.
Навсегда.
Маша Трауб
Холодная голова
Дарья Петровна, шестидесяти девяти лет, заслуженный педагог, преподаватель русского языка и литературы с более чем сорокалетним стажем, мать двух взрослых дочерей и бабушка троих внуков, влюбилась в соседа по даче. Точнее, ответила на его ухаживания. О соседе Петре было известно всё и ничего. Вдовец, имеет взрослого сына, предположительно – алкоголика. Или наркомана. Или просто бездельника. Пётр – строитель на пенсии, на десять лет младше Дарьи Петровны. Хороший сосед. Всегда помогал по хозяйству – крышу подлатать, текущий кран посмотреть. К Дарье Петровне он неизменно относился с большим почтением.
Первой заметила перемены в жизни Дарьи Петровны её старшая дочь Светлана, юрист, тридцати девяти лет, двое детей, разведена. Мама как-то глупо хихикала в телефонную трубку и на вопросы о здоровье отвечала невнятно. И вообще была неадекватна. Дочь примчалась к матери, обогнав вызванную неотложку. Врачам Светлана так и сказала про симптомы: «Глупо хихикает». Неотложка ничего страшного, кроме лёгкого алкогольного опьянения, не нашла. Светлана ещё долго говорила, что это же по-настоящему страшно, поскольку мама позволяла себе бокал вина только по большим праздникам, а вот так, вечерком, без повода, – никогда.
– Мама, скажи мне, что случилось? – не отставала от матери дочь.
– Ничего, Светочка. Или сразу всё случилось. Знаешь, мне так хорошо… – Мама опять глупо захихикала.
Света списала мамино состояние на действие лекарств и алкоголя. Другое объяснение ей просто в голову не пришло.
Младшая дочь Дарьи Петровны Алла забила тревогу, когда бабушка, сказавшись занятой, отказалась посидеть с внуком.
– Чем ты занята? – достаточно резко спросила Алла, поскольку у неё были собственные планы на вечер.
Именно ей мать рассказала под страшным секретом о Петре, которого она называла Петечкой.
– Петечка на ужин зайдёт, – призналась Дарья Петровна.
– Какой Петечка?
– Сосед наш по даче. Даже не знала, что так бывает. Столько лет рядом прожили, прямо под боком, а я только сейчас его разглядела по-настоящему.
Считалось, что младшая дочь лучше понимает маму. Говоря откровенно, старшую дочь Дарья Петровна просто боялась. Поэтому именно Алле рассказала, что Пётр предложил ей не просто так сожительствовать, а пойти замуж и даже венчаться. И даже пообещал удочерить взрослых детей и относиться к ним, как к родным. Алла сказала: «Лишь бы ты была счастлива, мамочка», – и немедленно в панике позвонила сестре.
– Надо бы его пробить, – проговорила Светлана и подключила к проверке друга-прокурора.
– А может, это любовь? – предположила Алла.
– Дура, – ответила сестра, которая всегда считала, что Алле в детстве сделали лоботомию, поэтому в зрелом возрасте она вышла замуж по большой любви, родила ребёнка и через два года развелась, решив не подавать на алименты и остаться с бывшим мужем друзьями. Бывший муж на правах друга своего сына не содержал, а когда напивался, объявлял о намерении разделить крохотную Аллину квартирку.
Светлана хотела познакомиться с Петром, так сказать, официально, «посмотреть ему в глаза, задать пару вопросов». Но Дарья Петровна заламывала руки и тоже что-то твердила про любовь.
– Так не бывает, – говорила Светлана. – Мама, ну включи ты здравый смысл! Хочешь встречаться – пожалуйста. Только зачем замуж выходить?
– А как же мировая художественная литература? – восклицала мама-педагог. – Почему ты отказываешь нам в праве на счастье?
Мама уже говорила «нам», что было плохим симптомом.
– Нам чужого не надо, но и своё не хочется отдавать, – постановила Светлана, подпустив матерное слово, но было уже поздно. Мама обиделась и бросила трубку.
Алла, как конфидентка, сообщала сестре, что мама часто не ночует дома, а если ночует, то не одна. И перестала забирать внука с шахмат.
К неудовольствию Светланы, друг-прокурор не нашёл на Петра ничего внятного – не привлекался, не состоял.
– А может, это любовь? – предположил он.
– Дурак, – заявила Светлана.
– Моя бабушка вышла замуж в семьдесят два года, – поделился прокурор, – по большой любви. И жила счастливо до самой смерти. Мама была против. Все были против. Они даже тайно женились. Бабушка, как девушка, всё скрывала. И когда мама поставила её перед выбором – новый муж или семья, дети, внуки, – бабушка выбрала мужа.
– И чем всё кончилось? – Светлана уже знала ответ.
– Как обычно, – пожал плечами прокурор. – Бабушкино имущество растащили чужие люди. Муж через полгода после её смерти снова женился. Бабушка подписала ему дарственную на дом. Мы об этом не знали.
– И ты после этого веришь в любовь?
– Она же была счастлива. Пусть несколько лет, но была же!
– Я не хочу, чтобы мама выбирала между нами и этим её Петечкой! – Светлана заплакала, как маленькая девочка, которая не знает, как ей поступить.
Она всегда была старшей в семье. Пока мама была занята учениками и воспитывала в них любовь к природе, Света сидела с младшей сестрой. Пока мама водила учеников по музеям и театрам, Света готовила ужин. В том числе и для мамы. Света не верила в Бунина, которого обожала мама. И в светлые чувства не верила. Она жила с холодной головой – вышла замуж, родила, наняла адвоката, подала на развод, отсудила алименты, привлекла судебных приставов, установила время общения детей с отцом, чужого не взяла, но и своего не отдала. Своих двух дочек она тоже воспитывала, как она говорила, «без бабочек».