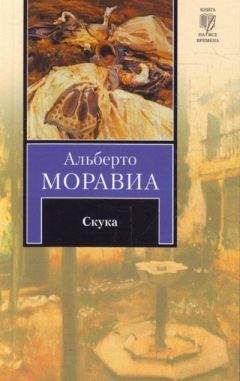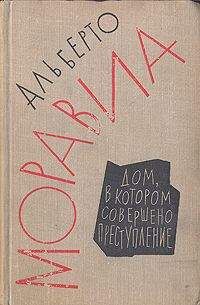Вспомнив, что Чечилия тоже говорила мне о слезах Балестриери, я сказал:
— Видно, он легко плакал, ваш муж!
— Какое там легко! Мы прожили вместе много лет, и я ни разу не видела в его глазах ни слезинки. Он плакал потому, что эта девушка довела его до отчаяния. И знаете, что он говорил? Он говорил, что она — его смерть. Э, видно, предчувствовал…
— А как звали того саксофониста, которому Че… которому девушка отдавала деньги?
Вдова поняла, что это действительно меня интересует, и дала понять, что поняла. Она с достоинством выпрямилась.
— Во-первых, профессор, зовите ее по имени, зовите Чечилией. Саксофониста зовут Тони Пройетти. Он играет в «Канарино» — это бар в районе виа Венето. Ну все, мне надо идти, профессор. Еще раз простите. Если вас все-таки заинтересуют картины, вы всегда застанете меня дома. Мое имя есть в телефонном справочнике: Ассунта Балестриери. На худой конец вы могли бы купить одну для матери, а, профессор? Так вы остаетесь или пойдете со мной?
Я не захотел оставаться; попрощавшись с вдовой, я вернулся в свою студию и, бросившись на диван, погрузился в раздумье. Доказательства того, что Чечилия была продажна, все множились, но, странное дело, эти доказательства ничего не доказывали. Даже будучи доказанной, эта продажность вдруг обнаруживала в себе что-то, что начисто опровергало саму идею продажности: деньги Балестриери, как сказала сама же вдова, она отдавала любовнику, Тони Пройетти. О том, что так это и было, свидетельствовала бедность гардероба Чечилии и то, что у нее не было ни одной, даже самой жалкой, драгоценности. Если она не отдавала деньги Пройетти, куда же они в таком случае могли деться?
На следующий день после визита вдовы, дождавшись появления Чечилии, я сразу же в упор ее спросил:
— Кто такой Тони Пройетти?
Она без колебаний ответила:
— Саксофонист, он играет в «Канарино».
— Нет, кто он тебе?
— Он был мой жених.
— Вы были помолвлены?
— Да.
— И что?
— Что «и что»?
— Что произошло?
Она ответила с некоторым напряжением:
— Он меня бросил.
— Почему?
— Ему понравилась другая девушка.
— Балестриери знал о вашей помолвке?
— Конечно. Я была помолвлена в четырнадцать лет, то есть за год до знакомства с Балестриери.
Пораженный, я пробормотал:
— Но ты же всегда говорила, что Балестриери ни о ком ничего не знал, что он был ревнив, что он даже обращался в сыскное агентство, чтобы тебя выследить.
Она ответила очень просто:
— К Тони Балестриери меня не ревновал, потому что он сам появился уже после Тони, и я сразу же ему сказала, что я помолвлена. Он ревновал, когда думал, что я изменяю ему с кем-то другим.
— Но кто-то другой в самом деле был?
— Да, но это длилось очень недолго.
— Другой был одновременно с Тони?
— Нет, он появился сразу после того, как мы расстались.
— А Тони знал о Балестриери?
— Да что ты! Он убил бы меня, если бы узнал.
— Но кто же в таком случае был у тебя первым?
— Что значит первым?
— Первым, с кем ты спала.
— Тони.
— А сколько тебе было лет?
— Я тебе уже сказала — четырнадцать.
— А сейчас ты видишься когда-нибудь с Тони?
— Иногда мы встречаемся и здороваемся.
— Скажи мне еще вот что: Балестриери давал тебе деньги?
Она посмотрела на меня, помолчала и сказала, как бы преодолевая какое-то странное внутреннее сопротивление:
— Да, давал.
— Много или мало?
— Когда как.
— Что значит «когда как»?
Она снова промолчала, потом сказала:
— Я не хотела, но он давал мне их насильно.
— То есть?
— Насильно. Он знал, что у Тони нет ни гроша и что, когда вечерами мы выходим с ним погулять, у нас нет денег, даже чтобы пойти в кино, и он заставлял меня брать деньги, чтобы я отдавала их Тони.
— Это он тебе сказал, чтобы ты отдавала их Тони? —Да.
— И как это случилось в первый раз?
— Как-то я сказала ему, что из-за того, что у нас нет денег, по вечерам мы просто бродим по улицам. Тогда он взял десятитысячную банкноту, вложил ее мне в руку и сказал: «Возьми, так вы сможете по крайней мере сходить в кино».
— А ты?
— Я не хотела, но он заставил меня взять. Он пригрозил, что, если я не возьму, он расскажет Тони, что мы любовники, и тогда я взяла.
— А потом он продолжал давать тебе деньги?
— Да.
— А давал он тебе более значительные суммы?
— Так как он знал, что мы с Тони собираемся пожениться и обзавестись домом, он заставил меня взять деньги на мебель.
— И что стало с этой мебелью?
— Она стоит в доме у Тони, я ему ее оставила.
— А машина?
— Какая машина?
— Разве не Балестриери заплатил за машину, которую купил Тони?
— А, да, за малолитражку. А кто тебе сказал?
— Вдова Балестриери.
— А, эта…
— Ты ее знаешь?
— Она приходила ко мне, требовала, чтобы я отдала ей деньги.
— И что ты ей сказала?
— Я сказала ей правду. Что ее муж заставлял меня брать деньги и что у меня ничего нет, потому что я все отдала Тони, как хотел ее муж.
— Сколько времени Балестриери давал тебе деньги?
— Почти два года.
— А как ты объясняла Тони, откуда берутся деньги?
— Я говорила, что у меня богатый дядя, который меня любит.
— А после того как Тони тебя бросил, Балестриери продолжал давать тебе деньги?
— Да, время от времени, если я просила.
— Но тому, другому, который появился после Тони, к которому ревновал Балестриери, ему ты тоже давала деньги?
— Этому деньги были не нужны. Он был сын промышленника.
— И он тоже тебя бросил?
— Нет, это я его бросила, потому что разлюбила.
— А кого ты полюбила?
— Тебя. Помнишь, мы встречались в коридоре, и я всегда на тебя смотрела? Вот тогда я его и бросила.
— Балестриери заметил, что ты в меня влюбилась?
— Нет.
— Ты никогда не говорила обо мне с Балестриери?
— Как-то раз. Он тебя не выносил.
— Что он обо мне говорил?
— Говорил, что ты выскочка.
— Выскочка?
— Да. И еще он ненавидел твою живопись. Говорил, что ты не умеешь рисовать.
Из этого разговора я вынес впечатление, что моя попытка доказать себе самому продажность Чечилии потерпела полный провал. Чечилия не была продажной, во всяком случае ее личность в это понятие не укладывалась. Кроме того, мне стало ясно, что Балестриери пытался утвердить свое превосходство над Тони тем, что посредством Чечилии его содержал, так что саксофонист об этом даже не догадывался, а Чечилия, хотя и предоставила себя для этого психологического маневра, не знала о нем и в нем не участвовала. Иными словами, как и со мной, Чечилия и с Балестриери умела разграничивать мир денег и мир любви. Разумеется, мы с Балестриери могли утверждать, что давали ей деньги, но она всегда могла доказать, что не считает себя «оплаченной». Ну и, наконец, то, как вел я себя с Чечилией, все больше напоминало поведение Балестриери, с той только разницей, что старый художник пошел дальше меня. Но зато моя мания была сильнее: ведь у него не было предшественника, который мог служить ему зеркалом, и естественно, что он не сумел остановиться. А у меня был он, который при каждом шаге предупреждал меня о том, чем я рискую, но, несмотря на это, я повторял все его ошибки, и мне даже как будто нравилось их повторять.
Чечилия между тем продолжала встречаться с Лучани каждый день, включая и те дни, когда виделась со мной, и таким образом ее неуловимость, то, о чем я давно подозревал, стала неопровержимым фактом, очевидным, как тавро, и отныне мне надлежало считаться с этим фактом и как-то к нему приспосабливаться. Я чувствовал, что моя к ней любовь, порожденная невозможностью обладания, после долгих метаний между скукой и страданием приобрела вид болезни, состоящей из четырех последовательных фаз: попытка овладеть ею помимо сферы сексуальных отношений, провал этой попытки, потом яростная и ничего не дающая сексуальная фаза, снова провал и — опять все сначала. И все-таки единственным, с чем я так и не мог примириться, была именно неуловимость Чечилии: я просто не в силах был делить с Лучани ее благосклонность. Помню, что, подобно Балестриери, который не ревновал ее к Тони Пройетти, потому что тешил себя мыслью, что это Тони она изменяет с ним, я пытался утешиться тем, что я знаю, что Чечилия спит с актером, а он не знает, что она спит со мной. Иными словами, по отношению к Лучани я пытался занять позицию, которую занимает любовник по отношению к ничего не подозревающему мужу: ведь любовники не ревнуют к мужьям именно потому, что «знать» в иных случаях значит «обладать», а «не знать» — «не обладать». Это было жалкое утешение, но оно давало мне возможность бесконечно заниматься построениями типа: «Я знаю о Лучани, а Лучани обо мне не знает, следовательно, Чечилия не мне изменяет с ним, а ему со мной». Кроме того, как когда-то у Балестриери, тут были замешаны деньги: я давал ей деньги, а Лучани не только не давал, но тратил их вместе с нею, тратил мои деньги; и раз платил я, а не он, значит, опять-таки в каком-то смысле она изменяла ему со мной. Однако нельзя было исключить, что с Лучани она спала из любви, а со мной из-за денег, а значит, она изменяла мне с Лучани. С другой стороны, у меня было много случаев убедиться, что Чечилия не придавала деньгам никакого значения. Стало быть, деньги в наших отношениях приобретали чисто духовный характер, а раз актер их ей не давал, то это ему она изменяла со мной. И так далее, до бесконечности.