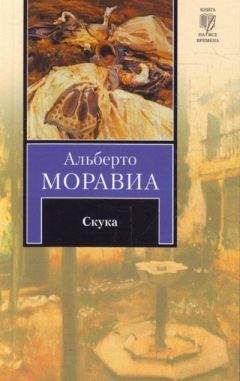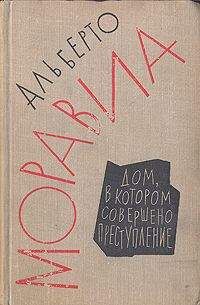Однако все эти замечательные рассуждения все-таки не могли зачеркнуть того грубого и очевидного факта, что Чечилия спала с Лучани и что до тех пор, пока это будет длиться, я не смогу считать ее своей, потому что настоящее обладание не может быть неполным. И если б Чечилия хотя бы давала мне забыть об этой неполноте! Но нет, будучи уверена, что она раз и навсегда разрешила проблему одновременного присутствия в ее жизни двух мужчин, она не только по всякому поводу совершенно спокойно рассказывала мне о своих отношениях с актером, но не заботилась даже о том, чтобы скрыть следы любовных ласк, которые Лучани оставлял на ее теле. Впрочем, в голосе Чечилии, когда, отвечая на мой вопрос, она говорила: «Это Лучани, он меня укусил» или: «Белое пятно на платье? Это Лучани, последний раз мы занимались любовью, не раздеваясь», — не было ни малейшего злорадства, а одна только спокойная уверенность человека, которому приятнее сказать правду, чем выдумывать всякие небылицы. Чечилия была настолько уверена в том, что необходимость делиться с Лучани уже не причиняет мне боли, что в конце концов стала в моем присутствии назначать ему по телефону свидания, а потом еще и просить меня ее к нему провожать. И как-то однажды, когда я вез ее на улицу Архимеда, где ее ждал Лучани, она внезапно сказала: «Я была бы рада, если бы вы с Лучани познакомились и подружились». Я ничего на то не ответил, но подумал, что, если бы мир был устроен по образу и подобию Чечилии, он был бы совсем не похож на тот, в котором мы живем: то был бы мир, где все перемешано и свалено в одну кучу; мир бесформенный, случайный и ирреальный; мир, в котором все женщины принадлежали бы всем мужчинам, и не было бы такой женщины, у которой был бы только один мужчина.
Но я страдал. И постепенно из этого страдания проросла фантастическая мысль, и меня поразило, что она не пришла мне в голову раньше: может быть, единственным средством избавиться от Чечилии, то есть сделать так, чтобы она мне наскучила, было жениться на ней. Чечилия-любовница никак не могла мне наскучить, но я был почти уверен, что она наскучит мне, как только станет женой. Мысль о браке становилась все притягательнее, открывая передо мной перспективу, совершенно не похожую на ту, которая живет обычно в воображении мужчины, собирающегося жениться: тот тешит себя мыслью о вечной любви, меня, наоборот, тешила мысль о том, что так я наконец смогу покончить со своей любовью. Я с удовольствием представлял себе, как, выйдя замуж, Чечилия станет самой обыкновенной женой, озабоченной домашними и светскими обязанностями, и, найдя в них полное удовлетворение, лишится наконец своей тайны, так сказать угомонится. Может быть, и теперешняя ее неуловимость была всего-навсего выражением матримониальных амбиций: вполне вероятно, что она инстинктивно искала среди своих любовников мужа, который заставил бы ее остановиться и успокоиться. Я женюсь на ней, сыграю свадьбу со всею принятой в нашем кругу церковной и светской пышностью и наделаю ей множество детей, что тоже будет способствовать прояснению ее образа, так как ограничит ее рамками материнства, в котором нет ничего загадочного.
Вы скажете, что решение прибегнуть к браку там, где не удалось выстроить отношения, основанные на любви и на деньгах, было абсурдным, потому что неадекватным, — все равно что поджечь собственный дом, для того чтобы прикурить сигарету! Но, как вы уже, наверное, поняли, со всяким обществом, а особенно с тем, в котором жила моя мать, я порвал, и при полном отсутствии корней и ответственности, посреди абсолютной пустоты моей скуки, и брак был для меня чем-то несерьезным и незначительным и именно потому для моей цели вполне годился.
Разумеется, женившись, я перееду на Аппиеву дорогу и стану жить там с женой и матерью. Брак, вилла, моя мать, круг знакомых моей матери — все это были детали той дьявольской ловушки, в которую Чечилия должна была войти как загадочный и очаровательный дух, а выйти из нее — заурядной светской дамой.
Впрочем, мысль о браке родилась у меня совершенно стихийно, это казалось мне самым верным средством прекратить отношения Чечилии и Лучани. Я считал, что, согласившись выйти за меня, Чечилия легко бросит Лучани. Хотя, по правде сказать, мне казалось, что, если Чечилия станет моей женой, мне будет не так уж важно, останется ли при ней Лучани или кто-нибудь другой.
Тут я должен еще сказать, что, помимо перспективы избавиться наконец от любви к Чечилии, брачный вариант позволял мне надеяться, что я снова вернусь к живописи, как только Чечилия, поселившись в доме моей матери, перестанет загораживать мне горизонт. Я представлял себе, как Чечилия отдастся светской жизни и заботам о детях, а я тем временем, уединившись в своей студии в глубине сада, займусь наконец своей дорогой, своей чистой, своей интеллектуальнейшей живописью. Это вам не Балестриери с его грязными горячечными холстами! Я чувствовал, что смогу теперь создать самые абстрактные из картин, которые когда-либо знала абстрактная живопись. Ну а под конец я просто брошу Чечилию со всем ее выводком на мать, а сам вернусь на виа Маргутта.
Вы скажете, что все это плохо согласуется с тем, что происходило до сих пор, и что проблема стояла совершенно иначе. На самом деле любовь к Чечилии и занятия живописью никак не зависели друг от друга, а были равноправны и автономны. Вовсе не любовь к Чечилии мешала мне рисовать: просто я не умел рисовать, как не умел овладеть Чечилией; и, таким образом, то, что я избавлюсь от любви, вовсе не означало, что я тут же смогу вернуться к живописи. К тому же я всегда ненавидел дом матери, деньги матери, круг знакомств моей матери и на виа Маргутта переселился в свое время именно потому, что чувствовал, что на Аппиевой дороге я не могу рисовать. А теперь я собирался вернуться именно в этот дом, в этот мир, который был мне так отвратителен. Всему этому я не могу дать никакого другого объяснения, кроме того, что противоречивость и непоследовательность составляют, по-видимому, вечно меняющуюся и непредсказуемую основу человеческой души. К тому же я испытывал такое глубокое отчаяние, что даже этот вид самоубийства, каким являлось для меня возвращение к матери, был для меня предпочтительнее сложившейся ситуации, поскольку открывал передо мною возможность избавиться от Чечилии.
Стояло лето, и однажды во время обычного утреннего разговора по телефону я предложил Чечилии вместо встречи в студии поехать прогуляться за город. Я знал, что Чечилия любит такие прогулки, но все-таки был удивлен жаром, с каким она приняла мое предложение.
— Тем более, — добавила она неожиданно, — что сегодня мы можем быть вместе целый день, до ночи. Я свободна.
— Что случилось? — спросил я саркастически. — Неужто твой суровый отец разрешил тебе встречаться со мной?
Она ответила, и в голосе ее прозвучало удивление, так как, по-видимому, она успела позабыть о той лживой уловке, с помощью которой хотела в свое время скрыть от меня свои свидания с Лучани:
— Да нет, просто Лучани сегодня не может, и я подумала, что тебе будет приятно, если мы проведем вместе целый день.
— Поблагодари от меня Лучани за его щедрость.
— Вот видишь, какой ты. Значит, это неправда, что тебе нужна одна только правда.
— Ладно, ладно, я заеду за тобой около одиннадцати, мы вместе позавтракаем.
— Нет, нет, в одиннадцать — нет. Завтракаю я с Лучани.
— То-то мне показалось странным, что ты готова не видеть его целый день.
— Я сама приеду в студию к трем.
— Хорошо, к трем так к трем.
Чечилия появилась в назначенный час с обычной своей пунктуальностью. На ней был новый зеленый костюм, и я сказал ей, что она прекрасно выглядит. Она ответила со старательной поспешностью, которая почему-то смутно меня встревожила:
— Я купила его на твои деньги. И еще вот это. — Она показала на туфли. — И это, — добавила она, подняв ногу, чтобы показать чулки. — В общем, — заключила она, — и сверху, и снизу я вся одета на твои деньги.
Я спросил, выводя машину со двора:
— А зачем ты мне все это говоришь?
— Ты сам мне как-то сказал, что тебе приятно, когда я об этом говорю.
— Это правда. Но мне было бы гораздо приятнее, если бы ты была моя не только сверху и снизу, но и внутри.
— Внутри чего?
— Внутри себя!
Я увидел, что она засмеялась своим детским смехом, приподнимавшим верхнюю губу над остренькими резцами.
— Внутри я ничья. Внутри у меня легкие, сердце, печень, кишки. На что они тебе?
Она была сегодня весела, и я спросил почему. Она беспечно ответила:
— Мне весело, потому что я с тобой.
— Спасибо, ты очень любезна.
Я миновал Пьяцца-дель-Пополо, переехал Тибр, проехал до конца улицу Кола ди Риенцо и, обогнув все выступы ватиканской стены, выехал на виа Аурелиа и двинулся по ней в направлении Фреджене. Чечилия неподвижно сидела рядом со мной — прямая, высокая шея, облако густых курчавых волос вокруг круглого личика, руки на коленях. Время от времени, продолжая вести машину, я искоса поглядывал на нее и снова и снова отмечал черты, которые загадочным образом делали ее столь желанной и в то же время столь ускользающей: детскость лица, которой противоречили резкие, сухие складки по углам маленького рта; угловатая хрупкость плеч, которой не соответствовали мощные, тяжелые очертания груди; гибкость и тонкость талии, которая никак не соотносилась с округлостью бедер и плотностью зада. А на коленях — руки, большие и некрасивые, однако привлекательные и даже красивые, если только согласиться, что некрасивая вещь может быть красивой. Никогда еще она так мне не нравилась, причем это чувство, возбуждающее и неуловимое, было чем-то похоже на нее самое. Едва мы выехали из Рима, как я понял, что не дотерплю до шести, то есть до часа, когда мы должны были вернуться в студию. В моем распоряжении было десять часов, а значит, я мог переспать с ней два раза: прямо сейчас и вечером, после ужина. Сейчас — на любой лужайке, после ужина — в студии.