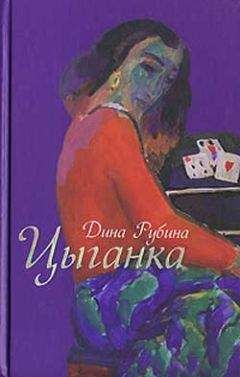Опять возникла молчаливая сноровистая монахиня, принялась собирать тарелки после борща.
Я огляделась. На стенах позади и вокруг меня рядами висели иконы. Частью старые, в широких золотых окладах, почерневшие (персонажи на них скорее угадывались по еле различимому сочетанию цветов: у Богородицы синее с красным, у Христа – пурпур с голубым), они являли образцы традиционного иконописного закона. Большие зоны локального цвета, иерархически выстроенное плоскостное пространство: самые важные фигуры даны четкими силуэтами, словно бы выступают за пределы иконы, святые помельче затуманены в глубине.
Среди прочих висели две небольшие, новописанные, но отменного качества. Более лапидарные по цвету, без этой патины времени, которая придает особую тональность доске, – они в то же время и более открытыми были, распахнутыми, даже радостными. И сочетание цветов: красная, зеленая, вишневая одежда святых на золотистом фоне, и лики, смотрящие прямо – с прорисованными, глубоко сидящими глазами, – сообщали этим доскам наивную декоративность и праздничность.
– Сколько у вас замечательных икон, Матушка, – проговорила я, улучив минуту. – Я не очень в них разбираюсь, вижу только, что есть и старые, и, наверное, ценные. Правильно?
– Есть и ценные, конечно... Вон, вверху, слева – век восемнадцатый, не ошибиться бы... Если не семнадцатый.
– А те? – Я показала на две новописанные. – Это ведь явно недавнее приобретение?
– Зачем же приобретение, – заметила она, подцепляя кружок помидора на вилку. – У нас тут свое натуральное хозяйство... – И кивнула вслед уносящей стопку грязной посуды монахине: – Вон, иконописица наша...
– Как?! – мы с Кирой одновременно ахнули. На ходу обернувшись, монахиня кротко улыбнулась мне поверх тарелок, легко пересчитала ногами несколько ступеней вниз, к кухне, и скрылась за дверью.
– Поразительно! Да где же она училась? И как попала к вам?
Матушка неторопливо протянула руку, придвигая ко мне баночку:
– К рыбе возьмите вот горчички. Не разочаруетесь: сами делаем. А Александра наша... Это отдельная история. Мы тогда под Иорданией находились, ну и ее бабка сюда принесла из Рамаллы. Мать в семье умерла, осталась куча детей, и эта, малышка, ползала по двору безо всякого пригляду. Что на земле найдет, хоть попку от огурца, хоть куриный помет – то ей и пища. Ну а мы-то маленьких таких не принимаем. Отослали ее в Вифлеем, в греческий православный монастырь, те малышей берут. А потом уже, когда подросла, забрали сюда. С тех пор она у нас... лет уже... постойте... тридцать.
– Но какой талант: чувство цвета, пропорций... И, главное, такая сила и искренность!
Матушка невозмутимо кивнула:
– Да, Александра весьма даровита. По монастырям всегда мастериц было в изобилии.
В эту минуту в уши ударил гнусавый рык, леденящий внутренности, и мне две-три секунды потребовались для того, чтоб опознать в нем обычную песнь муэдзина. Тот надсадный тягучий вой, что на рассвете сквозь сон слышу я в отдалении через ущелье. Здесь, усиленный динамиками оглушительной мощи, он звучал грозным боевым кличем. Оставалось только гадать, как выносят эту слуховую пытку, предназначенную неверным, сами жители арабских деревень, как не становятся заиками их спящие младенцы?
Минуты три неистовый звуковой смерч расширял воронку утробного воя, вспухал вокруг нас осязаемой стеною. Мы сидели, пережидая. Невозможно было ни слова сказать, ни услышать друг друга.
Наконец все оборвалось, словно рухнуло в обморочную тишину пустыни, истерзанной звуковым насилием.
Игуменья глянула на мое растерянное лицо, кивнула и еле слышно проговорила:
– Да-да... Соседи наши... – И, вздохнув, повторила: – Со-се-е-ди...
И сгорбилась, и пригорюнилась, как деревенская старуха, поправляя белый апостольник на голове.
Потом для нас долго вызывали такси, и когда прощались, я уже не задумывалась о ритуале. Просто расцеловалась с Матушкой, как с родной.
– А сняться?! – вспомнила вдруг Кира. – Я аппарат взяла!
Фотографировала Александра. Волновалась, долго всматриваясь в видоискатель фотоаппарата и смешно щурилась. Все боялась кнопкой ошибиться.
– Это вам не иконы малевать, – сказала Кира.
...Время от времени я люблю взглянуть на эту летнюю карточку: уселись мы втроем на продавленном диване – я и Кира с боков, Матушка посередке: сидит, дородная, чуть улыбаясь, круглые стекла очков поблескивают. И руки на колени уронила, беззащитно белые руки на черной рясе. «Матушка-молоток»...
А позади нас – чудесной работы гобелен с кистями: весь монастырь как на ладони, с храмом и церковью, с красавицей колокольней. Понизу искусно вышито золотой нитью:
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ НА СВЯТОМ ЕЛЕОНL.
– Я повезу вас дорогой Спасителя, – сказала Марина. – И для начала гляньте-ка вон туда. Видите?
На обочине круто несущейся вниз по склону дороги, неподалеку от огромного мусорного бака стоял белый осел. Фигура в наших палестинах самая обиходная. Но уздечка, сплетенная из цветастых тряпочек, красный хурджун, свисающий двумя тощими сумами по бокам и, главное, густые белые ресницы глубоких покорных глаз сообщали его кроткому облику домашнюю задушевность. Рядом с ним на каменном бордюре сидел старый араб в длинной галабие и белой куфие на голове, перетянутой витым черным шнуром.
– Ну, осел, – отметила я. – И что?
– Как это – что! Он Спасителя ждет!
– Когда?! – хором воскликнули мои американские друзья, Аня и Алик.
– Всегда! – весело ответила Марина, включая зажигание; и с самой вершины Масличной горы мы покатили вниз замысловатой дорогой, мимо осла, араба, гостиницы, что волнится на вершине семью крутыми арками и отовсюду видна, – к древнему еврейскому кладбищу, рассыпанному по склонам.
– Нет, серьезно, – уточнил Алик. – Он правда здесь всегда стоит?
И Марина почти всерьез ответила:
– А как же. Ведь точно никто не знает, когда явится Спаситель. Известно лишь – какой дорогой пройдет. Вот ослик-то и дежурит, чтоб в любой момент – под рукою. – Улыбнулась и добавила: – Заодно какой-нибудь турист сфотографируется, и для хозяина приработок.
Она показывала нам заветные, не затоптанные места Иерусалима в охотку – так показывают город только симпатичным тебе людям. Поэтому и очутились мы на вершине Масличной горы, где в последние годы появляться стало небезопасно. Впрочем, профессия гида вырабатывает привычку к будничным передвижениям по самым опасным местам. Так я совсем не боялась, когда жила в одном из поселений в Самарии и трижды в неделю ездила на работу в Тель-Авив по дороге, рассекающей несколько больших арабских сел.
Оставив у гостиницы машину, мы вышли и асфальтовой дорожкой стали спускаться по склону, между старых, забытых и частью раскрошившихся памятников, затем свернули влево, до старых щербатых ступеней, спустились еще ниже, наконец уперлись в железные ворота с фанерной дощечкой над ними, от руки расписанной: «Гробница малых пророков».
За распахнутыми воротами выстроились сторожами в ряд пыльные высокие туи, с отдельными как бы выпавшими из общего монолитного тела ветвями, – так локон выбивается из гладкой прически. Зеленоватые кожистые шишечки придавали деревьям встрепанный вид.
Мы оказались в большом дворе, чем-то напоминающем коммунальные дворы моего Ташкента: несколько халуп с разномастно застекленными террасами, обшарпанные сараюшки, белье, развешанное на веревках, подпертых рогатинами. На крыше одного из домов приземлилась бочком огромная телевизионная тарелка.
В дальнем углу двора в будке, вывалив наружу грязные белые лапы и лохматую башку, валялась собака, с ленивым равнодушием посматривая на незнакомцев. И целая колония кошек населяла двор и жила своей невозмутимой вольной жизнью. Все это было предоставлено холодному яркому свету, который всю томительно солнечную зиму катал и катал оранжевые шары по изнанке уставших век.
Посреди двора, за железной, запертой на замок оградой виднелась... Я не знаю как это описать. Глубокая яма? Широкая нора? Вход в подземелье? Словом, за железной калиткой круто вглубь, в утробу черной земли вели стертые каменные ступени и пропадали во тьме.
Мы принялись звонить, стучать, звать... никто не выходил. В сонной тишине на пустынном небе оцепенела черным распятием какая-то крупная птица.
Марина стала рассказывать, что этот участок Масличной горы с древним склепом еще до революции приобрел для Духовной Русской миссии архимандрит Антонин Капустин. Но большая арабская семья, невесть откуда явившись, понастроила на ней своих мазанок, сразу все обжила, как только они могут, немедля приспособив все окружающее пространство под свои нужды... А во время боев в Шестидневную войну, когда израильтяне освобождали Старый город, вся семья отсиживалась в этом вот самом склепе – нынешние хозяева были тогда детьми, они-то Марине и рассказали. Когда стихла канонада, отец выбрался наверх и вскоре вернулся от солдат с конфетами и молоком для детей. Так они поняли, что с евреями жить можно. А несколько недель спустя во двор явился министр по делам религий Исраэль Липель. Он сошел в гробницу, долго задумчиво трогал рукой неровные каменные своды... Выбрался наконец и сказал, почесывая небритую щеку: