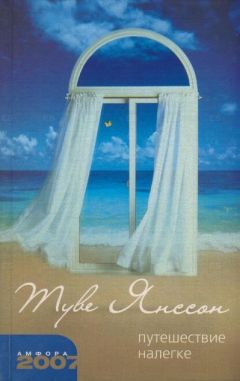Туман немного развеялся, и летняя ночь стала синей. Лежа в постели, Мария читала свою роль, медленно, внимательно прочитывала она каждую реплику кузины Фриды, они оживали одна за другой, звучали убедительно и логично. Роль была замечательная, просто замечательная. Но трудная. Только теперь Мария поняла, что для женщины, которую она должна играть, характерны не только покорность и незначительность, что она обладает еще и свойством, о котором говорят очень редко: естественной добротой. Той добротой, которая светится в улыбке кузины Фриды, но которую она не решается отдать другим, скрывает в себе, подавляет собственную щедрость.
Как же живет кузина Фрида? Чем она занимается? Я ничего не знаю о ней…
Мысли Марии отвлеклись, она отложила тетрадку. Внезапно тишина, царившая в доме, встревожила ее, она встала и открыла дверь на площадку. Нет, в щелке под дверью Фридиной комнаты света нет. Фрида спит. Или лежит и плачет? Мария подошла и прислушалась. Нет, тихо. Она облегченно вздохнула.
Вообще-то жаль, что пришлось вызвать сюда фру Хермансон. Но что поделаешь! Надо будет поручить Фриде починить простыни. Не завтра, конечно. А через день, через два. И может быть, рассказать ей какие-нибудь театральные сплетни, их все любят.
Когда Флура[53] Юханссон была молодая, ее часто сравнивали с цветком, она любила свое цветочное имя, считая, что оно ей очень подходит. Тоненькая шея, пышные золотистые волосы, голубые, как незабудки, широко раскрытые глаза, их взгляд мог бы показаться вызывающим, если бы их не затеняли длинные, тщательно накрашенные ресницы. Она выбирала наряды для своей худенькой фигурки в трогательно детской манере, но с большим вкусом, чаще всего носила юбки и девичьи блузки с круглым воротником, похожим на чашелистик. Скрытая такой пуританской униформой, ее кокетливая женственность проявлялась еще ярче, привлекая и волнуя. Тем, кто был с ней близок, казалось, будто они соблазняют школьницу. Флура Юханссон говорила о своих любовных приключениях с обезоруживающей наивностью, словно рассказывала анекдоты о преданных домашних животных, о которых нужно заботиться. Такая откровенность делала ее похожей на покачивающуюся на глади пруда кувшинку, к которой не пристает никакая грязь.
Отец Флуры, такой же некрасивый, грузный человек, как и его жена, работал дилером в сфере резиновой промышленности. Ее родители никак не могли прийти в себя от изумления, что произвели на свет такую красавицу, и ужасно баловали ее. Друзья Флуры были ей под стать, они также принадлежали к привилегированному клану любителей легкой и приятной жизни. Все они от случая к случаю спали друг с другом, одалживали, меняли или крали партнера — одним словом, отличались удивительной свободой нравов, чем весьма гордились. Они даже не очень-то старались скрывать свои похождения. Их любовные утехи были свободны от пафоса серьезности и лишены естественной стыдливости и шарма.
Когда Флуре исполнилось двадцать два года, она совершенно неожиданно вышла замуж за американца по имени Джон Фогельсонг[54], одного из партнеров своего отца. Этот Фогельсонг стал объектом весьма остроумных шуток, говорили, что Флура влюбилась в него исключительно из-за его фамилии, идеально подходившей к ее цветочному имени и облику. К их свадьбе друзья написали уйму изящных виршей и эпиграмм по поводу новой фамилии Флуры и связанных с ней ассоциаций, а также игривые стишки, разумеется о резиновой промышленности, в невинно-скабрезной форме намекающих на богатый любовный опыт невесты, приобретенный до перемены фамилии. Джону Фогельсонгу, любезному, довольно банальному господину с усталым лицом, эти стишки переводить не стали. Наутро он подарил Флуре ожерелье из бриллиантов и сапфиров. Сапфиры удивительно подчеркивали синеву ее глаз. А на другой день новобрачные отправились на Бали, где муж намеревался объединить медовый месяц с кое-какими деловыми встречами, после чего возвратиться в свой калифорнийский дом под Лос-Анджелесом.
Вначале родители и особенно друзья получали от Флуры довольно много писем, она с восторгом рассказывала про свой новый дом, сад, бассейн, яхту, про восхитительные празднества, на которых присутствовала масса знаменитостей всякого рода. Словом, все у нее было до того прекрасно, что просто не верилось. Потом она стала писать реже, и не кому-нибудь из своих друзей, а по письму на всех вместе. Из ее писем они узнали, что Джон слишком много работает, что у него больной желудок. «Дорогие, ребятки вы мои ненаглядные, как мне хочется, чтобы все вы были со мной здесь и подбодрили моего долговязого усталого бизнесмена. Бедняга, не много птичьих песен удается ему послушать в Лос-Анджелесе. Бизнес, бизнес, бизнес… Ах, если бы вы прилетели сюда и осыпали его разноцветными букетами вашего остроумия и веселья! Он все время в разъездах… И его вовсе не радуют великолепные места, где он бывает, да у него и нет времени осматривать их. Ах, если бы я была на его месте!»
Постепенно Флура перестала писать длинные письма. Теперь она посылала красивые открытки из разных частей света. Иногда это были фотографии: Флура в пробковом шлеме верхом на верблюде или в шляпе с круглой тульей на лошади, Флура в бикини на пляже… На каждой открытке была подпись в виде цветка — счастливого, распустившегося, поникшего, в виде бутона, полного ожидания или со скрученными лепестками и виноватым выражением. Иногда на цветок взирала взъерошенная птица с подобающей миной. «Дорогие мои ребятки, такова моя жизнь. И до чего же она все же прекрасна!»
Друзья Флуры отвечали в том же духе, рисовали цветы и птиц, посылали ей дурашливые и ласковые картинки с короткими приписками. «Мы сидим на солнышке, пьем белое вино и думаем о тебе, злючка-колючка, решившая нас покинуть!» И подписи. Под конец весточки от Флуры стали получать лишь папа с мамой. В каждом письме расплывчатое обещание увидеться. «Подумать только, как это было бы замечательно! Вы должны приехать сюда… В следующий раз, когда Джон поедет на север…»
Но до того, как Джон собрался поехать на север, началась война. А прежде, чем война кончилась, папа и мама умерли.
* * *
Спустя тридцать четыре года после того дня, когда Флура стала миссис Фогельсонг, привычный для нее мир рухнул. Усталого Джона Фогельсонга нашли мертвым в постели, а в оставленном на ночном столике письме просьбу простить его. Поскольку он никогда не посвящал ее в свои дела (ей они были вовсе неинтересны и непонятны), он лишь упомянул в постскриптуме, что жене делать ничего не придется, нужно лишь позвонить в фирму «Шун энд Шун», которой он дал необходимые инструкции. Оказалось, что он оставил в этой фирме банковский депозит, довольно скромный, и документы на маленькую квартиру в Сан-Педро. Квартира была очень маленькая, даже синий океан за окном не радовал Флуру, а лишь усугублял ее печаль и чувство одиночества. Она все еще походила на цветок.
* * *
В такси по дороге к гостинице Флура узнала о том, кто умер, кто развелся, у кого уже есть внуки. Все это казалось совершенно невероятным и пугало еще сильнее, чем жизнь в Сан-Педро.
В гостиничном номере на столе стояла бутылка вина и букет незабудок. Флура снова заплакала.
— Дорогие мои, — всхлипывала она, — ведь это мои цветы, мои старинные любимые цветы… Я знала, вы не сможете забыть свою Флуру!
* * *
Вечером встретились все, кто остался в живых. Встретились в отдельном кабинете ресторана в гостинице, они пили шампанское и весело, шумно вспоминали события тридцатипятилетней давности. Почти каждое восклицание начиналось словами: «А ты помнишь?..» Все пили за Флуру, вокруг ее тарелки лежал венок. Под аплодисменты она надела венок на голову и сидела, улыбаясь; без очков она не могла хорошенько разглядеть лица своих друзей, но наслаждалась яркими красками, движениями, огнями свечей, наконец-то ощущая тепло и спокойствие, чего она и ожидала от возвращения домой. На ней было длинное синее платье и ожерелье из сапфиров, на мгновение она подумала, не чересчур ли она вырядилась, но тут же решила, что это совершенно естественно: их пропавшее дитя цветов, вернувшееся с другого конца света, и должно быть нарядным, как принцесса. Она высказала им это в кокетливо-лукавой речи, заявив в довершение, что никогда более не будет испытывать чувства одиночества, и намекнула на галантные стишки, написанные давным-давно по случаю ее бракосочетания…
Шампанское и общее веселье взволновали ее, — вспомнив свою свадьбу, она начала всхлипывать, не окончив фразу, беспомощно опустилась на стул и подняла бокал:
— Чао, ребятки мои, ребятки мои… Ваша Флура просто неисправима, не так ли? Вовсе не изменилась!
* * *
Папино и мамино наследство досталось государству, и с помощью друзей Флура нашла квартиру, маленькую, еще меньше, чем в Сан-Педро. В шутку она называла ее своей берлогой, а иногда — своей мастерской. Друзья навещали ее, но ту великолепную атмосферу, что выдалась в вечер встречи, им не удалось сохранить. Воспоминания, вопросы и рассказы были исчерпаны, а описывать в деталях события давних дней было нелепо и неинтересно. Для тесного круга за маленьким столом был необходим интимный контакт, которого больше не было. Они вели светскую беседу, а не болтали по душам, иногда вдруг наступало неловкое молчание. Теперь Флура смогла близко рассмотреть своих друзей и увидела, что их одежда и их лица порядком потрепаны. Ах как они изменились! Под конец она решила рассказать о своих путешествиях. Они слушали, смеялись, удивлялись, но замечания их были скупы, а в вопросах не чувствовалось горячего желания услышать ответ.