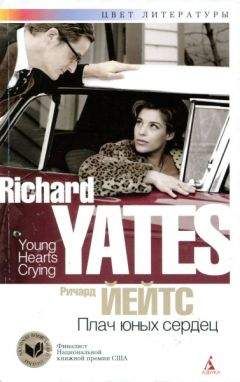— Место-то, конечно, ничего, — сказал Билл Брок, осматривая дешевую квартиру, которую Майкл нашел себе на Лерой-стрит в Уэст-Виллидж. — Но нельзя же все время отсиживаться в этой дыре, Майк, ты же тут с ума сойдешь. Смотри: в пятницу вечером на севере будет мажорская вечеринка — какой-то рекламист ее устраивает, я сам его толком не знаю. Косит под какого-то суперудачливого гангстера — ну да и хрен с ним: на такой вечеринке кто угодно может оказаться.
И Брок присел на корточки перед письменным столом, чтобы написать на бумажке адрес и фамилию.
Дверь там открыл радушный мужчина, тут же объявивший, что друзья Билла Брока — его друзья, и Майкл нерешительно вошел в комнату, забитую галдящими и выпивающими незнакомцами, производившими впечатление прохожих, которых собрали наугад на ближайшей улице: их сходство ограничивалось дорогой одеждой.
— Толпа собралась немаленькая, — сказал Билл Брок, когда Майклу удалось наконец его найти. — Только никого особенно интересного, боюсь, нет — в смысле никого свободного. Разве что в той комнате имеется необыкновенная молодая британка, но к ней не подойти. Окружена со всех сторон.
Она и вправду была окружена: за ее внимание одновременно боролись пятеро или шестеро мужчин. Но она была вся настолько необыкновенная — глаза, губы, скулы, аристократический английский прононс — все как у первой красавицы из какого-нибудь английского фильма, что любая попытка протиснуться к ней поближе не казалась лишенной смысла.
— …Мне нравятся ваши глаза, — сказала она ему. — У вас очень печальные глаза.
Уже через пять минут она согласилась встретиться с ним у выхода, «как только получится отсюда смотаться»; на это ушло еще пять минут; и следующие полчаса они провели за выпивкой в ближайшем баре, где она сообщила, что ее зовут Джейн Прингл, что ей двадцать лет, что она приехала в Америку пять лет назад, когда ее отца «назначили руководителем американского отделения какой-то гигантской международной корпорации», что теперь ее родители развелись и что она «уже какое-то время совсем неприкаянная». Правда, она тут же заверила его, что ни от кого не зависит: на жизнь она зарабатывала в каком-то театральном агентстве, где была секретаршей, и работа ее устраивала («Люди мне там нравятся, и они меня любят»).
Но Майкл уехал с ней из этого бара на такси еще до того, как она закончила все это рассказывать, и едва ли не в следующее мгновение она уже лежала голая у него в кровати, сладостно обвивая его ногами, извиваясь и задыхаясь от нахлынувшего на нее, как она чуть позже заверила его сквозь слезы, первого в жизни оргазма.
Джейн Прингл была так прекрасна, что в ее присутствие почти невозможно было поверить, но больше всего ему нравилось то, что она была не против остаться с ним навсегда — или, как она сама говорила, «пока ты сам от меня не устанешь». И хотя первые дни и недели, которые они прожили вместе, вряд ли можно было назвать самыми счастливыми в жизни Майкла — слишком много в них было деланых улыбок и вздохов, — именно тогда он убедился, что все его чувства снова ожили и приобрели поразительную яркость и свежесть, а этого пока что было вполне достаточно.
Дважды в месяц она охотно уничтожала все следы своего присутствия в квартире, когда Лаура приезжала на выходные, однако, посадив дочь на поезд в воскресенье, он возвращался на метро с уверенностью, что в его окнах на Лерой-стрит будет гореть свет: Джейн была уже там и ждала его возвращения.
Вообще-то, считалось, что она живет у своей тетки, «старой зануды», недалеко от Грамерси-парка, — там она держала свои вещи. А разве тетя не выражает недоумений по поводу ее нового жизненного уклада?
— Нет-нет, — заверила его Джейн. — Она никогда не задает вопросов. У нее духу не хватает. Она сама страшно богемная. Майкл, ну когда ты уже разденешься?
Она находила столько поводов, чтобы сказать ему, какой он замечательный, что он бы и сам в это уверовал, если бы его самооценка не страдала ежедневно в процессе работы. С тех пор как он переехал в Нью-Йорк, у него не получилось ни одного стихотворения. Сначала он думал, что присутствие Джейн в его жизни поможет переломить ситуацию, но месяц проходил за месяцем, а он все так же воевал со словами.
На недостаток уединения жаловаться не приходилось, потому что Джейн работала всю неделю, и это само по себе было частью проблемы: когда ее не было, он по ней скучал.
А работу свою она, похоже, действительно любила. Она называла ее «развлекухой», сколько бы он ни говорил ей, что такого существительного не существует, никогда не позволяла себе опаздывать и утром всегда уезжала в офис идеально одетой и ухоженной, и по вечерам он всегда удивлялся, сколько свежести и живости она способна была сохранить после целого дня за столом секретарши. Она возвращалась в его жизнь с резким запахом осени, с песенкой из новой музыкальной комедии, а иногда и с целой сумкой дорогих продуктов («Ты не устал от ресторанов, Майкл? И вообще мне нравится для тебя готовить; люблю смотреть, как ты съедаешь то, что я сделала»).
И даже когда работа переставала быть развлечением, в ней всегда находилось место для мелодрамы.
— Я сегодня плакала на работе, — сообщила она однажды, опустив глаза. — Ничего не могла с собой поделать. Но Джейк обнял меня и не отпускал, пока я не успокоилась, очень мило с его стороны, я считаю.
— Кто такой Джейк? — Майкл был поражен, как быстро она заставила его ревновать.
— Он из компании; один из владельцев. Другого зовут Мейер, он тоже хороший, но иногда бывает грубым. Сегодня он на меня наорал — раньше он такого никогда себе не позволял; поэтому я и расплакалась. Правда, потом было видно, что ему самому паршиво, и он очень извинялся, перед тем как уйти.
— И сколько у вас там народу? Только эти двое или еще есть?
— Нас четверо. Есть еще Эдди. Ему двадцать шесть лет, мы с ним большие друзья. Почти каждый день вместе обедаем, а однажды даже прошли в танго всю Сорок вторую улицу — просто для прикола. Эдди хочет стать певцом, то есть он и есть певец, причем, по-моему, абсолютно замечательный.
Он решил не спрашивать больше про офис. Выслушивать все это ему не хотелось; тем более что пока она приходила домой с явным желанием еженощно ублажать его в постели, все это не имело ни малейшего значения.
Когда он смотрел, как Джейн ходит по квартире, когда гулял с ней по вечерним улицам или сидел в старой доброй «Белой лошади», на ум ему то и дело приходило слово «необыкновенная», брошенное Биллом Броком. Она и вправду была необыкновенная. Он стал ощущать, что никак не может насытиться ее телом, а то, что он скучал по ней, пока она была на работе, свидетельствовало и о более глубокой привязанности. Он даже почти уже не замечал ее деланых улыбок и вздохов — они были частью ее стиля — и часто сожалел, что история ее жизни слишком уж изобилует всякими историями.
В семнадцать лет она вышла замуж за молодого преподавателя престижной частной школы в Нью-Гэмпшире, где она сама училась, но семейная жизнь оказалась такой «отвратительной», что родители устроили развод, не дождавшись первой годовщины свадьбы.
— И это был последний раз, когда мне пришлось в чем-либо полагаться на родителей, — сказала она. — Больше и не подумаю ни о чем их просить. Они теперь так поглощены ненавистью друг к другу и оба так носятся со своей новой любовью, что я стала их немножко презирать. И хуже всего то, что они оба испытывают передо мной страшное чувство вины: меня это бесит. С мамой все не так страшно, она в Калифорнии, а папа-то здесь, в Нью-Йорке, и это кошмар. И потом еще эта прекрасная Бренда — его жена, то есть моя мачеха. Забавно, что сначала она мне даже понравилась: стала для меня чем-то вроде старшей сестры, мы некоторое время были очень близки, пока я не увидела, как хорошо она манипулирует людьми. Дай ей волю, она всю мою жизнь к рукам приберет.
Но все эти семейные обиды забывались в мгновение ока. Иногда Джейн звонила отцу прямо от Майкла и восторженно, с каким-то даже кокетством болтала с ним по часу, то и дело называла его «папочкой», до упаду хохотала над его шутками, потом просила позвать Бренду, после чего следовало еще полчаса приглушенной таинственной болтовни, посредством которой девицы в большинстве своем общаются только со своими лучшими подругами.
И возможно, потому, что у Майкла была собственная дочь, гармония этих разговоров чаще всего доставляла ему удовольствие: он даже улыбался про себя, слушая, как на другом конце комнаты журчит без конца ее милая английская речь, и ему не раз приходило в голову, что он был бы не прочь как-нибудь познакомиться с ее отцом. («Я так рад… — наверняка сказал бы отец, — так рад, что Джейн вроде бы наконец определилась».)
Отец не всегда был управленцем, объяснила Джейн после одного из телефонных разговоров; его первой любовью была журналистика, и в войну он был одним из ведущих корреспондентов крупнейшей лондонской газеты. Раньше она, правда, говорила, что ее отец всю войну выполнял для британского правительства опаснейшие шпионские задания, однако он не стал обращать на это внимания, потому что, насколько ему было известно, журналист вполне мог быть по совместительству шпионом.