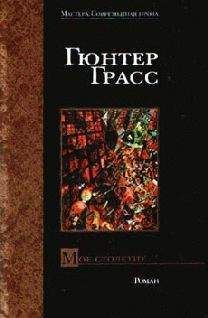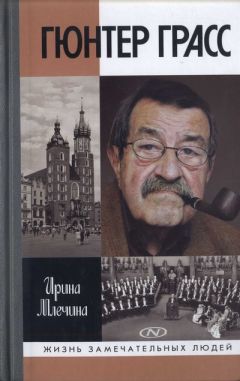Согласно его рассказу, он, обливаясь потом, вернулся из Фридрихсхайна, с йоггинга. Удивительного в этом ничего нет, ибо восточные берлинцы в последнее время тоже увлеклись этим видом самоистязания американской выпечки. На перекрестке Кете-Нидеркирх-нер и Бётцовштрассе он повстречал одного знакомого, который точно так же пыхтел и потел после пробежки. Все еще переступая с ноги на ногу, оба уговорились встретиться вечером за кружкой пива, и немного спустя уже сидели в просторной гостиной того знакомого, чья трудовая деятельность протекала, как он выразился, в сфере «производства материальных ценностей», почему нашего знакомого и не удивило, когда он обнаружил в квартире у своего знакомого свеженастеленный паркет, ибо ему, который, сидя в своем архиве, только и знал, что перекладывать бумажки с места на место и по сути отвечал лишь за примечания, такие расходы были явно не по карману.
Выпили одно пильзенское, потом другое, потом перешли к «Нордхойзерской горькой». Говорили о прежних временах, о подрастающих детях и об идеологических барьерах на родительских собраниях. Мой знакомый — он родом из Рудных гор, где я в прошлом году рисовал мертвый лес на горных хребтах, — собирался — о чем и сказал своему знакомому — будущей зимой взять жену и поехать туда кататься на лыжах, но у него не все в порядке с «вартбургом», резина совсем лысая, хоть на передних, хоть на задних колесах, то есть протекторов почти не осталось. Теперь же он надеется при содействии своего знакомого разжиться новыми зимними покрышками. У того, кто при реально существующем социализме может за свой счет настелить новый паркет, наверняка есть и доступ к специальным покрышкам с надписью «Г+С», что означает «Грязь плюс снег».
В то время как мы, осененные благой вестью, приближались к Белендорфу, в так называемой «берлинской комнате» знакомого нашего знакомого работал телевизор с почти вырубленным звуком. И покуда оба за пивом и водкой обсуждали проблему замены покрышек, причем владелец нового паркета высказал мысль, что для новых покрышек нужны «настоящие деньги», вызвался, однако, раздобыть для «вартбурга» две новых выхлопных трубы, хотя в остальном ничего не обещал, мой знакомый бросил беглый взгляд на беззвучный экран, где явно шел какой-то фильм и где по ходу действия этого фильма молодые люди карабкались на Стену, садились на нее верхом, а пограничная полиция праздно наблюдала за этими невинными развлечениями. На подобное неуважение к пограничному валу знакомый моего знакомого отреагировал следующей репликой: «Типичные западные штучки!» Потом оба взапуски принялись комментировать безвкусицу на экране. «Не иначе какой-то фильм про холодную войну!», потом снова возобновили прерванный разговор про скверные летние покрышки и недостающие зимние. Об архиве и хранящихся там наследиях более или менее значительных писателей речи вообще не было. Когда мы уже жили в осознании надвигающегося бытия без Стены и, едва вернувшись домой, врубили телевизор, по другую сторону Стены прошло еще известное время, прежде чем знакомый моего знакомого наконец-то совершил несколько шагов по свежевыложенному паркету и на полную мощность включил звук. И с этого мгновения не было произнесено более ни единого слова про зимние покрышки. Уж эту-то проблему должно было решить новое летоисчисление, «настоящие деньги». Допиты остатки водки и бегом, к Инвалиденштрассе, где уже образовалась изрядная пробка, множество машин, причем «трабантов» больше, чем «вартбургов», пробка, потому что все хотели к пограничному переходу, который чудесным образом был сегодня открыт. А кто вдобавок внимательно слушал, тот мог услышать, что каждый, почти каждый, кто пешком или в «трабанте» хотел попасть на Запад, громко или шепотом, повторял: «С ума сойти», точно так же, как немногим ранее воскликнул я перед Белендорфом, после чего, однако, снова отдался ходу своих мыслей.
Я только забыл потом спросить у своего знакомого, как, когда и за какие деньги он обзавелся, наконец, новыми покрышками. Еще я был бы рад узнать от него, встретил ли он вместе со своей женой, которая в ГДР-овские времена была довольно известной фигуристкой, Новый, девяностый год в Рудных горах. Потому что так ли, иначе ли, но жизнь продолжалась.
Мы встретились в Лейпциге и не только затем, чтобы присутствовать при подсчете голосов. Якоб и Леонора Зуль приехали из Португалии и остановились в отеле «Меркурий», что неподалеку от вокзала. А Уте и меня, приехавших из Штральзунда, приютил у себя в пригороде Видерич один аптекарь, которого я знал еще по Лейпцигскому «Круглому столу». Всю вторую половину дня мы шли по следам Якоба. Он вырос в рабочем квартале, который раньше назывался Ётч, а нынче переименован в Маркклееберг. Сперва его отец Авраам Зуль, преподававший в еврейской гимназии немецкий и идиш, эмигрировал вместе с младшими братьями в Америку. В тридцать восьмом за ними последовал пятнадцатилетний тогда Якоб. Осталась в Ётче только мать, из-за распавшегося брака, но потом и ей пришлось бежать в Польшу, Литву, Латвию, где летом сорок первого года ее настигла немецкая власть и — так об этом говорили впоследствии — охранники расстреляли при попытке к бегству. Мужу и сыновьям не удалось накопить в Америке достаточно денег для ее въездной визы в Соединенные Штаты — последняя надежда жены и матери. Лишь изредка и с запинкой поминал Якоб эти тщетные усилия. Хоть уже и не очень твердый на ногах, он без устали показывал нам доходный дом, задний двор, где сушилось белье, свою школу, а на соседней улице — спортзал. На заднем дворе состоялось свидание с перекладиной для выколачивания ковров. И Якоб снова и снова с великой радостью показывал нам этот пережиток своей юности. Он склонял голову к плечу и закрывал глаза, словно прислушиваясь к равномерным ударам, словно задний двор был населен, как и прежде. А потом он пожелал, чтобы Леонора сфотографировала его на фоне синей эмалированной таблички, где под датой 01.05.1982 была написана официальная похвала: «Образцовый жилой коллектив города Маркклееберг». Точно так же остановился он и перед синей, к сожалению, запертой дверью спортзала, поверх которой из своей ниши строго глядел вдаль бюст Яна, отца гимнастики, основавшего спортивное движение немецкой молодежи.
— Нет, — сказал Якоб, — к богатым евреям-меховщикам из Внутреннего города мы не имели никакого отношения. В нашем районе все, хоть евреи, хоть неевреи, хоть даже наци, были всего лишь мелкими служащими и рабочими.
После этого Якоб заторопился. С него на сегодня хватило.
Неудачу на выборах мы переживали в «Доме демократии» на Бернард-Герингштрассе, куда нас проводил молодой техник-строитель. Там у движений за гражданские права с недавних пор имелись свои офисы. Сперва мы побывали у «зеленых», потом в «Союзе 90». Там и сям сидели на стульях, на корточках или стояли молодые люди, глядя в телевизор. Здесь Леонора тоже сделала несколько снимков, на которых и по сей день можно углядеть молчание и ужас по завершении первых подсчетов. Одна молодая женщина закрыла лицо руками. Все уже догадывались, что ХДС одерживает сокрушительную победу.
— Н-да, — сказал Якоб, — демократия она и есть демократия.
На другой день перед боковым входом в Николай-кирхе, откуда осенью прошлого года начинались понедельничные демонстрации, мы обнаружили на заборе из рифленой жести большой плакат, который своей синей каймой и синими же буквами старался походить на дощечку с названием улицы. На нем мы прочли «Площадь подставленных» и пониже, «Привет от детей Октября. Мы еще здесь».
Прежде чем мы попрощались с нашим аптекарем, который голосовал за ХДС — «Все из-за проклятых денег. Я уже и сам жалею…», — он показал нам с приятной гордостью и при социализме не утратившего активности саксонца свой дом с бассейном и садом. Рядом с небольшим прудиком мы увидели бронзовую голову Гёте высотой в полтора метра, которую наш гостеприимный хозяин сумел выменять на здоровую бухту медной проволоки, прежде чем огромную голову поэта успели отправить в переплавку. Мы восторгались в его садике и канделябром, который вместе с другими канделябрами был бы продан в Голландию за валюту, если бы нашему аптекарю не удалось освоить этот экземпляр или, как он выражался, «спасти». Точно таким же путем он припрятал, чтобы затем украсить ими свой сад, две колонны из Лабрадора и порфировую чашу с кладбища, которое предполагалось заровнять. И повсюду, повсюду мы видели высеченные из камня или отлитые из чугуна скамьи, которые он, никогда не садившийся, едва ли использовал.
Потом наш аптекарь, оставшийся, невзирая на социализм, самостоятельным предпринимателем, отвел нас к подведенному под крышу бассейну, воду в котором, начиная с апреля, подогревали солнечные батареи. Но еще больше чем эти западные ценности, добытые путем обмена, нас потрясли фигуры из песчаника, изображавшие в размерах больше человеческого роста Иисуса Христа и шесть апостолов, среди них — всех евангелистов. Нам поведали, что спасти эти фигуры удалось буквально в последнюю минуту, то есть прежде чем Маркускирхе, как и остальные лейпцигские церкви, была разрушена «коммунистическими варварами». И вот Христос, созданный в соответствии с представлениями конца девятнадцатого века, стоял в полукруге с некоторыми из своих апостолов по краю отливающего бирюзой бассейна и благословлял двух усердно начищающих изразцовые стенки роботов (японского происхождения, между прочим). Благословлял он и нас, когда мы еще только прибыли в Лейпциг, дабы пережить отрезвление после результатов первых свободных выборов в Народную Палату, благословлял, возможно, и грядущее объединение, пребывая под крышей, которую поддерживали стройные и, как сообщил нам аптекарь, «дорические колонны». «Здесь, — поведал он нам далее, — эллинские и христианские элементы скрещиваются с саксонской практической смекалкой».