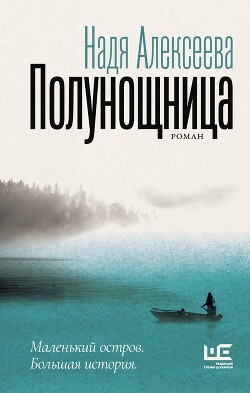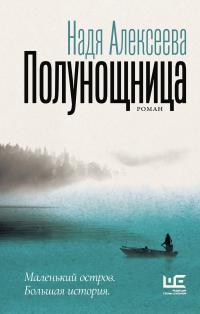– На службу.
– Ну да.
– Ты обещал с ним помириться, помнишь?
– Вроде дед Иван тут ошивался. Куда пропал, не видела? Выпить не с кем.
Пока разлил по новой, Ася исчезла. После пятилетней завязки ей, видать, хотелось укрыться.
Семен ждал. Пил. Наливал еще. К горлу подступала знакомая тошнота.
– Долго как она разговляется, – хмыкнул Семен и пихнул локтем Митрюхина, тот не среагировал.
Митрюхин хоть забыться может. Напиться до чертей у Семена не вышло даже после похорон отца. Вылакал тогда все, что смог раздобыть. И его просто вывернуло наизнанку, сутки лежал пластом. Тогда он точно знал, что это ацетальдегид, токсин в печени, вызывает рвоту, защищает желудок. Врачом хотел стать, и стал бы. Если бы…
Поднявшись, Семен оглядел свои стены, портреты отца и матери. Висят по отдельности. Так они и жили. Брать их с собой или пусть уж сносят Зимнюю с ними вместе? Неужели и правда – не будет Зимней? Споткнулся о батарею пустых бутылок возле лавки.
– Сволочи! – сказал бутылкам. – Нарочно вышвырну весь мусор вперемешку, пусть святоши сортируют. И правда, что ли, на службу ушла.
Митрюхин во сне зашлепал губами.
Послышались шаги по коридору, возня под дверью. Ну, наконец! Ася вернулась. Ясное дело, сама захлопнула, теперь не войдет никак. Ноги у Семена окрепли: подбежал к двери, распахнул – Ася стояла лицом к поленнице. Капюшон натянула, как от дождя. Вроде стала ниже ростом. У нее в руках что-то булькало и плескало.
– Ася, на поленницу-то зачем лить? Еще вспыхнет! А, да хрен с ней! Заходи!
Замерла.
– Не хочешь пить, не надо. Я тоже завяжу, за компанию, скажи только… Ася? Поедешь со мной в Сортавалу?
Обернулась.
– Ёлка? Ты?
Семен тряхнул головой, два лица, молодое и старое, Асино и Ёлкино, наложились друг на друга. Стали одним.
Ёлка рванула к выходу, не выпуская из рук бутылку. Семен за ней. С лестницы потянуло паленым.
Асю на носилках загрузили в газель, увезли. Семена с ней не пустили. Так и стоял, покачиваясь, не в силах бежать за машиной, не зная, куда теперь. Данилов подошел к старцу, уговаривал не дышать гарью, в его-то возрасте. Оба смотрели на третий этаж, на ряд выбитых окон в черных подпалинах, над которым не было больше крыши. Внутри, в потемках, мелькали белые лучи, эмчеэсники продолжали поиски.
Данилов пытался поймать руку старца, пощупать пульс. Старец ускользал.
– Батюшка, работать мешаете! Идите в амбулаторию, я вас там спокойно обследую. Хотите, на машине отвезем? Она вернется сейчас.
– Лучше бы вам самому пойти, волонтер там у вас в шоке.
– Павел? Да он в себя еще не приходил.
– Пришел в себя, вот сейчас пришел. – Голос старца прозвучал неожиданно молодо, ясно.
Данилов вздохнул, сказал что-то спасателям, едва не побежал через каре. Семен скосил глаза на старца. Где он слышал этот голос? Подошел ближе. Старец опустил руки по бокам. Смотрел просто. Весь он был белесый, глаза выцвели. Семену вспомнилась опустевшая сторожка с распахнутой настежь дверью, перед ней кусок окаменевшего хлеба, облепленного муравьями. Он тогда искал Ваську в лесу, звал до хрипоты. Лежа на пузе, высматривал его тощее тело в бухте, куда порой прибивало утопленников. Плевал на землю. Топтал и ненавидел остров.
Припадая на правую, Васька шагнул к Семену.
– Васька, да что же ты, я тебя и не… как ты… где же?!
Семен уже раскинул руки. Жестянка, громыхнув, вывалилась из-за пазухи, ударила по ноге. Показалось, что и Ася сейчас появится откуда-то из-за спины. Что теперь все будет хорошо. Семен даже рот открыл – хватать все, что скажет Васька. После стольких лет. Ну надо же, как он мог не узнать! Вот дурень. Едва не спился тут с тоски. А Васька-то, Васька, вот он, живой.
– Я отца твоего отмолил.
Семен стоял, раскинув руки. Он не слышал, как суетились Митрюхины, как эмчеэсники и солдаты поднимали обрушившиеся балки, как плакала из-за сгоревшего школьного ноутбука Танька.
Васька его так и не обнял. Семен убрал руки в карманы. Сжал в кулаки.
Нет, не Васька это, старец. Он с ними заодно. Хоть и смотрит по-доброму.
– Теперь ты его отпусти. – Старец кивнул на лежавшую на земле жестянку. – Отца. Отпусти.
От злости Семен едва не взвыл. Поднял жестянку, нарочно прогремел ей, как бубном, затолкал обратно за пазуху, побежал к причалу, сам не понимая, зачем садится в лодку. Мотор затарахтел. Замелькали гранитные откосы с тощими осинами, сосны, ельник. Лоб остудили мелкие брызги.
Пришвартовался у Оборонного. В казарме сразу открыл тайник, достал Васькин ТТ, проверил магазин, защелкнул. Рухнул на лавку. Ёлка. Всю его молодость перекособочила, а теперь явилась сжечь местных? Сорок лет почти прошло – и не забыла своего Егора. Или с монахами сговорилась, стерва?
Постарела.
Семен вспомнил, какая была Ёлка: белая, гордая. Как сидела у него в лодке и смотрела вдаль. Из-под юбки выглядывали ее колени. Пахло летом и смолой. Ёлка мурлыкала модную песенку только для себя. А он заговаривал время, чтобы не возвращаться домой до заката.
Тогда он боялся ее.
Любил.
Боялся.
Спрятав пистолет в карман, Семен спустился к лодке, завел мотор. Он не думал, как выстрелит, куда будет целиться, где взять глушитель. Важно было одно – не дать ей сбежать с острова, как тогда.
Причалил поодаль, у Покровской часовни. Там проходила старая тропа водоноса, по которой пацаном бегал. Через сад, к обветшалым Монетным воротам. Ими и сейчас пользуются редко. Потому как здесь общественный туалет, хозяйственный двор, мусорные баки. Семену нравится этот вид. Изнанка монастыря, выходит, и есть его жизнь. Его, Митрюхина, Таньки, Шурика, деда Ивана.
В саду, отогнув ветки яблонь, ему навстречу вышли двое. Васька-Власий, одетый все так же в драную шерстяную кофту, и регент – весь в черном, тощий, поникший. Семен отпрянул от неожиданности. Ведь он и шагов не слышал.
– Отдай, что у меня взял. – Васька протянул руку, все еще крепкую.
Семен подумал, что взгляд-то у Васьки не изменился.
– Чего? Встали, как мы с Тамарой санитары. Пройти дайте.
– Отдай, говорю, не бери грех на душу. Ей недолго осталось.
– Кому? – Семен понял, что Васька-Власий видит его насквозь, перевел взгляд на регента: – Ты чего тут торчишь? Иди, куда шел, не видишь, нам потолковать надо.
Регент не поднял глаз.
– Ты чего, певчий, обиделся на меня? – взъелся Семен. – Так я погорелец теперь. Все ваше. Забирайте.
– Ему молчать пять лет предстоит, чтобы не соблазнялся больше о себе.
Пробил колокол. Послышались шаги.
– Сеня, нет времени, – голос звучал Васькин, а рука старца все ждала, протянутая, спокойная. – Верни, что взял, не твое это дело.
Семену опять вспомнились молодые колени под синей юбкой. Вытащил пистолет из кармана, протянул. Васька-Власий секунды его не задержал в руке, размахнулся ловко, как когда-то удочкой. Пистолет полетел в воду. Плюхнулся далеко от берега. Две чайки, видно, прикормленные монахами, ринулись хватать добычу, но лишь покружили над местом.
Регент не поднял головы. Будто не только онемел, но и оглох. Как на веревке он пошел за Васькой, который, швырнув пистолет, помолодел, распрямил спину. Семен потянулся следом. Войдя в Монетные ворота, Васька согнулся, снова стал старцем. Светлым, как выбеленный сосновый крест. Старец обернулся, перекрестил Семена.
– Теперь уж не увидимся. На Оборонный не езди. Нет там больше твоего отца.
* * *
В храме все читали, гундосили. Кто-то пихнул деду Ивану в руку свечу. Ее огонек дрожал от страха. Толпа выстроилась на крестный ход, он остался сидеть на месте. Тот москвич его о чем-то спрашивал. Дед не слышал. Свеча расплакалась по рукам горячим воском. Старухи в дверях зашамкали: «Пожар, пожар». Закрутились ноги, подолы юбок, черные рясы. Храм опустел. Дед Иван поплелся вслед за всеми.
Горела Зимняя. С крыльца, уже занимавшегося дымком, сползал Митрюхин. Танька с Шуриком его поднимали. Донеслось: «Да отвалите вы, сам дойду!» Вроде Семен. Вокруг громыхали ведрами, выла сирена. Инок уронил в грязь хоругвь. Большинство стояло столбами с рыжими всполохами в глазах.