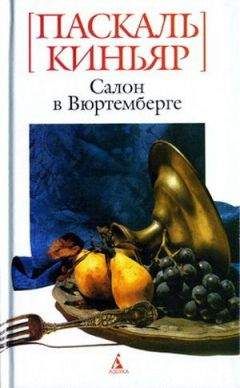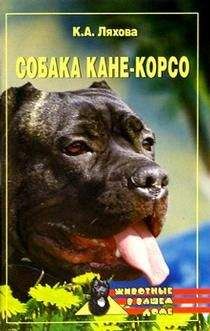Он был один в своем офисе на набережной Анатоля Франса. Выложил на стол три каталога. Два экземпляра нюрнбергского «Bestelmeier» 1807 года. И один «Sonnenberger Spielzeugmus»[81] 1813-го. Сходил в кабинет Пьера. Принес оттуда ковчежец с четырьмя миниатюрными фигурками, сделанными матерью Анжеликой во время первого заточения у госпожи Ранцау.[82] В ковчежце хранился молочный зуб Господа нашего Иисуса-Христа. Он подумал: эта вещь по праву принадлежит тете Оттилии. Но тут же отказался от этой мысли. Ведь речь шла о мертвом Боге в гробнице. Цена ковчежца выражалась в маленьком букетике из пестро-черных тюльпанов. Было 17 апреля. Святая пятница.
Он поставил рядом с ковчежцем ярко-зеленый английский грузовичок примерно 1910 года (несомненный Барнетт) и парижский трехосный автобус «Мадлен-Бастилия» из категории «Шнайдер Н-6» (выпущенный на линию в 1923 году транспортной городской управой); этот был желто-зелено-белый.
Рядом с автобусом, ходившим до площади Бастилии, он поместил белого барашка, приклеенного копытцами к коробочке-гармошке: стоило нажать на нее, как барашек издавал блеянье; игрушка называлась «Полина Виардо». Но, поразмыслив, отставил ее на полку у себя за спиной.
Эдуард разглядывал маленький зелено-белый автобус, ходивший до площади Бастилии – ходивший некогда по улице Шаронн, мимо проезда де Меню. Мимо запаха рыбьего клея. Этот запах вызывал тошноту. После смерти Пьера его часто рвало. Ему было холодно. Скоро должны были прийти секретарши.
Тогда он вздохнул. Отодвинул кресло. Еще с минуту полюбовался мертвым Богом, грузовичком Барнетта, маленьким зеленым автобусом, что стояли перед ним в ряд. И взялся за телефон.
Он отмечал Пасху в Шамборе. Они сидели впятером в викторианской гостиной с задернутыми плюшевыми шторами, вокруг небольшого стола красного дерева с четырьмя ножками, обутыми в пышные сапоги из лисьего меха, в широких низких креслах с бахромой: тетушка Отти, ее старинная подруга Дороти Ди, Лоранс, Мюриэль, Эдуард. Они пили чай.
– Вы видели эту ужасную катастрофу, милый Эдвард? – спросила миссис Ди.
Речь шла о затонувшем пароме компании Töwnsend-Thoresen. Эдуард вспомнил, как десять месяцев назад тетушка Отти прибыла на пароме в порт Зебрюгге. Но на сей раз речь шла не о компании Herald of Free Entreprise. Затонул паром Töwnsend-Thoresen. По крайней мере, так утверждала Дороти Ди, которая присутствовала при посадке своей подруги Оттилии на паром.
Никто из их знакомых не погиб при этом крушении. И, однако, Эдуарду Фурфозу почудилось, что по комнате скользнула чья-то тень. Маленькая утопленница, зовущая на помощь, правда, не обутая в лаковые туфельки. Накануне он едва не поссорился с теткой у входа в замок Его вдруг обуяла какая-то чисто детская обида. Гнев, вырвавшийся из самой глубины сердца. «Никто не хочет играть со мной на лестницах Шамбора!» – заключил он, сердито глядя на тетку и Дороти Ди, стоявших рядом. Ни та, ни другая не пожелали взбираться по лестницам, каждая по своей, улыбаясь друг другу в просветы перил и надеясь встретиться где-то там, наверху. «Не говори глупости, – строго сказала тетя Оттилия. – Это слишком высоко. Нам уже не восемь лет. Не правда ли, Дороти?» Но Эдуард не желал отказываться от своего каприза, не желал смиряться с поражением. «Она же катается со мной на велосипеде по заповеднику, – думал он. – А здесь не хочет подняться на четыре этажа!»
– Кому еще чаю? – спросила Мюриэль.
– Это был по-настоящему преданный друг, – сказала Лоранс; она говорила о Пьере.
– С чего ты это взяла? – спросила тетушка Отти.
– Мы с ним разговаривали.
– Да, это большая редкость. И верно, люди на высшей ступени цивилизации гораздо чаще делятся друг с другом мыслями и чувствами, чем приматы в саванне, способные издавать лишь нечленораздельные крики, – подтвердила Дороти Ди.
– Вы уверены, что это так? – спросила Оттилия у подруги; эти слова буквально сразили ее.
– А что же мы делаем в данный момент, Оттилия? – вопросила миссис Ди, наклоняясь над столом, чтобы взять еще ломтик кекса.
Оттилия задумалась. Она поставила чашку на стол.
– Может, вы и правы. Но мне-то казалось, что мы как раз находимся в саванне. И издаем невнятные крики.
Пус вспрыгнул на колени к Эдуарду. Он окунул лицо в пушистую белую шерсть Пуса. Кошачье сердечко билось в торопливом, как сама жизнь, ритме. Он закрыл глаза. Ему привиделась спина, плакавшая перед старым пианино Pleyel: пианино плавало в море. Волосы, мягкие, как шерстка Пуса, в которую он уткнул лицо, тоже плавали в море, качались на поверхности воды. Пианино Pleyel, золотые буквы на черном дереве, косичка, голубая заколка. Желтые полуботинки на шнурках, один из которых, развязавшись, отмеривал ритм невпопад.
Морские волны звали его к себе. Может, ему следовало переехать к морю, жить в портовом городе, на польдере, на плотине-волнорезе, уходящей в океан, а не обретаться на набережной парижской реки или в доме близ Обсерватории, окнами в сад?
Тетушка Отти дернула его за рукав.
– Ты согласен, малыш, что все низкое бесспорно?
– Конечно, тетя. Но я не следил за вашим разговором.
– Малыш, я говорила, что те оправдания, которые мы придумываем для нашей жизни, и порядок, в котором мы их выстраиваем, всегда выглядят слишком уж благопристойно, чтобы быть истинными.
– Я думаю, что благопристойно выглядят те гипотезы, о которых больно думать, – подтвердила миссис Ди.
– Да неужели нет таких мыслей, которые бы утешали? – испуганно спросила, взволновавшись, Лоранс.
Она была очень красива. Сегодня она надела черную блузку из фигурного джерси, с низким вырезом. На пальце блестел красный рубин.
– Нет, – сказала тетушка Отти.
– Нет, – повторила Дороти Ди.
– Вы с ума сошли! Да любая мысль утешает, других просто не существует, – возразил Эдуард. – Даже когда люди плачут.
– Вы говорите глупости, Эдвард. В мысли нет и не может быть ничего «сладенького». Вы со мной согласны, дорогая? – спросила Дороти Ди.
– Не расстраивайтесь, милая Доти. Мой племянник чокнутый. Религия, политика, философия и прочие людские забавы – все это не важнее кошачьей мочи.
– Тетушка, уж не имеете ли вы в виду чай, который мы пьем?
– Помолчи, Эдвард, сделай милость! Не слушайте его, милая Доти. Я знаю по опыту, что настоящая мысль всегда приносит в своих когтях добычу, которая отбивается и страдает.
– Тетушка, по-моему, ты плеснула в свой чай слишком много портвейна.
– А ты, малыш, слишком худ, слишком глуп и слишком много мечтаешь. Хищники…
– Извините, что прерываю вас, Оттилия, но если речь идет о пернатых хищниках, я не понимаю, отчего все низкое более бесспорно, чем то, что летает у нас над головой, – заявила Дороти Ди, прикрыв глаза.
– А я не понимаю, почему вы так ненавидите добрые мысли или все, что кажется обманчивым, утешительным, – вмешалась Лоранс. – Ведь и дурная мысль может обмануть.
– То, что нас ранит, не способно обмануть, – ответила тетушка Отти. – Вы еще молоды, Лоранс. Когда-нибудь вы убедитесь, что низкая мысль редко вводит людей в заблуждение.
– Ибо она спускает вас с небес на землю, – добавила Дороти Ди, поуютнее устраиваясь в кресле и откидывая голову на кружевную салфеточку подголовника.
– Не мешайте ей дремать, – шепнула тетушка Отти Эдуарду, Лоранс и Мюриэль.
– Тетушка…
– Говори потише. Ты разбудишь миссис Ди. Эта старая любительница пофилософствовать слегка тронутая, но я счастлива, что она будет жить со мной, раз уж Лоранс меня покидает. Ну а ты, малыш, не пора ли тебе перестать колесить по свету? Путешествия не приносят никакой пользы. Вот я и решила окончить свои дни в этом парке. А вообще жизнь повсюду такая же, как здесь, но здесь – это нигде.
– Я вовсе не тронутая, и Шамбор вовсе не «нигде»! – объявила миссис Ди, внезапно открыв глаза.
– О тетушка! – сказал Эдуард. – Это «нигде» – самое прекрасное на свете!
Время – это ребенок, играющий в кости, а судьба – деревянный волчок, что жужжит под его пальцами.
Гераклит [83]Он только что вернулся в Шамбор. Прикрыл за собой дверь. Зазвонил телефон.
– А у нас мама сломалась! – объявил в трубку возбужденный голосок малышки Адрианы.
Эдуард предложил приютить у себя Адриану на десять дней, пока Юлиан будет жить у своей прабабки в Херенвене, в Голландии.
Роза ван Вейден сломала руку, летая на дельтаплане. Отрубленная «рука Брабо» в Антверпене, запачканные краской руки Антонеллы в мастерской на дороге, ведущей в Болонью, изящные, с коротко подстриженными ногтями руки Лоранс Гено – его жизнь вдруг показалась ему скверным романом о призраках, где призраки простирают к нему свои странные руки и сыплют каламбурами. Ему вспомнилась знаменитая брейгелевская картина в главном брюссельском музее; незаметное падение Икара в море. Смерть была там изображена как миниатюрная игрушка. Пахарь выглядел гигантом. Безумная, преисполненная гордыни мечта Икара занимала на фоне природы – как, впрочем, и на самом холсте – самое незначительное место. Гигантский пастух охранял гигантских коров. Гигантский корабль боролся с волнами. Облака, свет, тени, формы – все это сразу бросалось в глаза, ибо все это было красочно и живо. И только в уголке картины, едва намеченная несколькими мазками, исчезала в море пара вскинутых ног розовой игрушки, которую неизвестно почему звали Икаром.