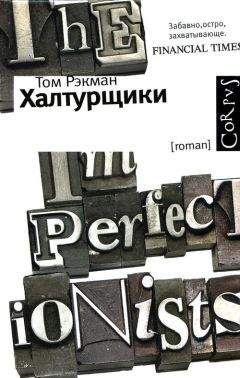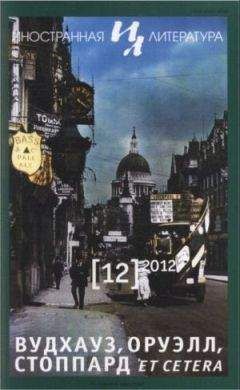Когда солнце оставляет свой небесный пост и на вахту выходят комары, Оливер с Шопенгауэром направляются обратно на Авентин. Живут они в особняке XVI века, который Сайрус Отт купил по дешевке в начале 1950-х. Оливер набирает код, и автоматические стальные ворота со скрипом открываются. В доме звонит телефон.
Оливер снимает с Шопенгауэра ошейник, сматывает поводок и заходит в гостиную. Потолок тут даже выше, чем в прихожей, он отделан барельефами в стиле рококо со звездами и пухлыми херувимами, резвящимися по углам. Висящие на стенах картины, написанные маслом, освещены слабо, так что сразу их не разглядеть — издалека кажется, что на всех них изображен темный лес; только позолоченные рамы сверкают. В восточных коврах протоптаны тропинки пеших маршрутов — на кухню, к закрытым ставнями окнам, книжным полкам, канапе для двоих, к старинному телефону, звонок которого дребезжит прямо сейчас, задевая обои. Включается автоответчик.
— Привет, это снова я, — начинает Кэтлин. — Я в офисе. Позвони мне, пожалуйста. Спасибо.
Оливер берет из стопки на полу Агату Кристи в мягкой обложке и садится с Шопенгауэром (которого он подманил шоколадным печеньем) на канапе. В семь вечера домработница объявляет, что ужин готов. Подают что-то тушеное. В еде слишком много розмарина и слишком мало соли, но вполне съедобно. Шопенгауэр с мольбой во взгляде втягивает носом аромат мяса, его грустные глаза налиты кровью, из пасти течет слюна. Оливер берет свежую газету — ему ее настойчиво присылают, хотя он ее никогда не читает. Он кладет раскрытый номер на стол и ставит на него тарелку с остатками еды. Потом придвигает стул для Шопенгауэра, тот немедленно на него запрыгивает и тянется к тарелке. Пес поворачивает морду набок и хватает мясо с морковью, а потом запрокидывает голову, заглатывая пищу.
— Лучше бы, конечно, ты умел управляться с ножом и вилкой, — комментирует Оливер, — но тебя не научишь.
Когда в тарелке ничего не остается, Оливер комкает газету, запачканную соусом и выпавшими у пса из пасти кусками пищи, и выбрасывает ее на кухне, а Шопенгауэр принимается лакать воду из миски, погрузив в нее заодно и уши.
В гостиной снова звонит телефон. И снова срабатывает автоответчик.
— Я иду домой, — устало сообщает Кэтлин, — звони на сотовый. Желательно сегодня. Дело срочное. Спасибо.
Шопенгауэр носом открывает дверь и выходит из комнаты, убегая вверх по лестнице.
— Для всяких отношений полезно иногда побыть одному, — комментирует Оливер, словно пес еще рядом и слышит его. Оливер опускается на пол, ложится на живот и оказывается среди стопок книг, словно в высокой траве: «Последние дела мисс Марпл», монография издательства «Ташен», посвященная Тернеру, список картин британских художников, выставленных на торги аукционным домом «Сотби» в XX веке, полное собрание рассказов об Отце Брауне издательства «Пингвин», каталог Национальной галереи «Караваджо: последние годы», «Архив Шерлока Холмса». «Куда ты делся?» — спрашивает он у отсутствующего пса. Смотрит на кухне. «Шоп?» Заглядывает в столовую. «Где ты, черт тебя дери?»
Оливер взбирается по темной лестнице с фонариком. (Он живет только на первом этаже; во всем остальном особняке царит тьма, все завешено брезентом.) Луч света шарит по лестничной площадке на втором этаже. «Шопенгауэр, где ты?» Черное брюхо дома заглатывает Оливера, мерцает канделябр; в гостиной снова звонит телефон. Пищит автоответчик, в качестве номера сообщения постоянно высвечивается «99», потому что на дисплее места для третьей цифры нет.
«Ну, где ты, дурачок?» — кричит Оливер в темную бальную залу. Он водит фонарем из стороны в сторону и наконец восклицает: «Ага!» — под пианино сверкнули глаза. «Прости за яркий свет». Он выключает фонарь, и бассет рысью бежит к хозяину, стуча когтями по деревянному полу. Оливер опускается на колени, чтобы поприветствовать друга. «Что ты делал там, под пианино? Спал?» Он гладит Шопенгауэра по длинному все еще влажному уху. «Надеюсь, я тебя не разбудил».
На ощупь они пробираются в кабинет, где хранятся дедовы документы тех времен, когда тот жил в Риме. Оливер включает лампу и с видом классического сыщика принимается заглядывать в ящики. Он находит блок бумаги для писем с заметками, сделанными Оттом пятьдесят лет назад — что-то о рулонах газетной бумаги, цены на линотипы, расценки на телекс. Он также обнаруживает незаконченное письмо жене и сыну: «Дорогие Джин и Бойд, хочу объяснить одну важную вещь, которую вам необходимо понять». На этом письмо заканчивается.
Оливер переворачивает страницу и находит другое написанное Оттом письмо. «Я хочу, чтобы все картины достались тебе, мы покупали их вместе, и мне кажется, что они теперь должны быть у тебя, — начинает он. — Сходи с этим письмом к моим адвокатам, они сделают все, как я сказал». Следующая строчка написана неразборчиво. Далее: «Мне очень хочется тебя увидеть, но звонить я не стану. В этой болезни ничего приятного нет. Смотреть тут не на что. Но тебе стоит знать, что кое о чем я жалею, — говорится в письме. — Жалею, что оставил тебя в Нью-Йорке. Но я принял такое решение и должен с этим жить. Я женился, потом ты вышла замуж. После этого я не собирался вмешиваться. Я считал себя человеком приличным и не знал, как эти приличия отбросить. Думая об этом сейчас, я понимаю, что это было чистое безумие. Но я сам себя поставил в такое положение. Сам себе связал руки. Я строил и строил — видит бог, это у меня хорошо получалось. Все эти небоскребы, полные жильцов, этаж за этажом, но ни в одной из комнат не было тебя. Ты спрашивала, почему я приехал сюда, в Рим. Новости меня никогда не интересовали. Я просто хотел оказаться с тобой в одной комнате, даже если для этого мне пришлось построить эту комнату, забить ее людьми, пишущими машинками и всем остальным. Я лишь надеюсь, что ты понимаешь: газета была создана для тебя».
После этого — синее чернильное пятно, словно кончик пера задержался тут на некоторое время. Потом текст продолжается, уже очень мелким почерком: «Не могу это отправить… А надо, черт возьми… Теперь уже слишком поздно… Не будь идиотом, пошли ей это письмо».
Но он так и не сделал этого.
Оливер кладет блокнот обратно в ящик. «Какой же ты жирный», — говорит он Шопенгауэру, спускаясь по лестнице с ним на руках. «Ты куда тяжелее, чем мне кажется, и я всегда об этом забываю». В гостиной он опускает пса на пол так, как будто это журнальный столик. Столик уносится прочь. «Уснул под пианино!» — припоминает он, отряхивая руки. «Я теперь весь в пыли».
Звонок снова стучит по обоям. «Я делаю вид, будто он не звонит, — объясняет Оливер. — А он делает вид, что меня тут нет».
Пищит автоответчик. «Оливер, это Эбби. Буду рада рассказать тебе, как прошла встреча в Атланте. В общем, я вернулась. Позвони. Спасибо».
Он снова заманивает Шопенгауэра на канапе. «Что уставился? — спрашивает он у пса. — Я почитать собрался».
Шопенгауэр рыгает.
«Гадкий ты баламут», — ругается Оливер. Но долго он сдерживаться не может и снова принимается гладить собачьи уши. Шопенгауэр довольно урчит, утыкаясь хозяину в бедро. «Дружище, — продолжает Оливер, — как мне повезло». Потом он внезапно приходит в себя и добавляет: «Если бы кто услышал, как я с тобой разговариваю! Но это не то же самое, что разговаривать с самим собой. Ты же слушаешь, потому что…» — тут он останавливается, посмотреть, отреагирует ли пес как-нибудь.
Тот зевает.
«Видишь, мне необходимо закончить предложение, иначе ты ничего не поймешь».
У пса опускаются веки.
В последующие недели звонят еще чаще.
«Деньги, деньги, деньги, — жалуется Оливер Шопенгауэру. — Ну и что мне делать? Не я же „Отт Групп“ управляю».
Кэтлин наговаривает на автоответчик: «…ты нужен на производственном совещании. Я всем сказала, что ты придешь, и я была бы благодарна, если бы ты мне перезвонил».
Дойдя до Валле-деи-Кани, Оливер надевает на Шопенгауэра поводок-рулетку, чтобы тот поиграл с другими собаками, но не смог убежать. Остальных собачников Оливер удивляет: он уходит к краю участка, где растет трава, встает за деревом, прижимает к носу какой-нибудь детектив, не желая ни с кем встречаться взглядом, и держится за самый длинный и самый неудобный в мире поводок. Каждые несколько минут ему приходится подбегать к кому-нибудь из животных или людей и освобождать их от веревки. В подобных случаях, даже если с ним заговаривают, Оливер не отзывается. Он распутывает своего друга, возвращается к дереву и продолжает читать, точнее, продолжает делать вид, что читает.
В Риме у него нет друзей, кроме Шопенгауэра. У него вообще нигде нет друзей, кроме Шопенгауэра. Разве что еще жив его старый товарищ, мистер Девин, который был уже на пенсии, когда Оливер учился в школе. Сколько ему сейчас может быть лет? Да вряд ли он дотянул до двадцать первого века, он же столько смолил. Милый старик. Нельзя его за это осуждать. Ему наверняка было одиноко. Лучшего объяснения этому нет.