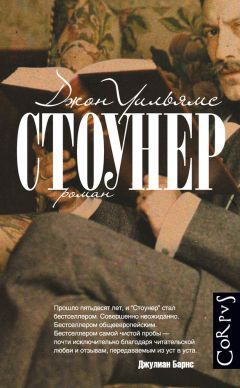— Эдит, прости меня, ради бога. Я не хотел тебя расстраивать. Собирался сказать на следующей неделе, перед тем как ложиться. Ничего серьезного, не волнуйся.
— Ничего серьезного! — Она горько усмехнулась. — Подозревают рак. Ты знаешь, что это такое?
Он вдруг почувствовал какую-то невесомость, захотелось схватиться за что-нибудь, но он себе не позволил.
— Эдит, — сказал он глухим голосом, — поговорим лучше завтра. Пожалуйста. Сегодня я устал.
Она пристально посмотрела на него.
— Давай доведу тебя до твоей комнаты, — раздраженным тоном предложила она. — Не похоже, что сам сумеешь дойти.
— Ничего, дойду, — сказал он.
Но еще до того, как он добрался до своей комнаты, он пожалел, что не принял ее помощь, и пожалел не только потому, что встать и идти оказалось труднее, чем он думал.
Отдохнув в субботу и воскресенье, он смог в понедельник провести занятия. Домой вернулся рано, лег в гостиной на диван и стал с интересом рассматривать потолок, но тут в дверь позвонили. Он сел и начал было вставать, но дверь открылась. В ней стоял Гордон Финч. Он был бледный, и у него подрагивали руки.
— Входи, Гордон, — сказал Стоунер.
— Боже мой, Билл, — сказал Финч. — Почему ты от меня скрывал?
Стоунер хмыкнул.
— Я, видимо, с таким же успехом мог бы в газетах дать объявление, — проговорил он. — Хотел сделать все тихо, никого не волновать.
— Понимаю, но… господи, если бы я раньше узнал.
— Да не переживай ты так. Пока ничего определенного — просто операция. Эксплоративная — так, кажется, они это называют. С целью диагностики. А все же от кого ты узнал?
— От Джеймисона, — ответил Финч. — Он ведь и мой врач. Он сказал, он понимает, что это неэтично, и тем не менее считает, что я должен знать. И он был прав, Билл.
— Понятно, — сказал Стоунер. — Прав или не прав — не имеет значения. В университете знают?
Финч покачал головой:
— Пока нет.
— Тогда держи язык за зубами. Очень тебя прошу.
— Конечно, Билл. А как быть с этим торжественным обедом в пятницу? Имей в виду, ты можешь его отменить.
— Но не отменю, — сказал Стоунер. Он улыбнулся. — Я думаю, это мой долг перед Ломаксом.
Лицо Финча посетил призрак улыбки.
— Я вижу, ты и впрямь стал сварливым и вздорным стариканом.
— Наверно, стал, — согласился Стоунер.
Обед прошел в небольшом банкетном зале Студенческого союза. Эдит в последнюю минуту решила, что не сможет высидеть, поэтому он отправился один. Он вышел из дому рано и медленно двинулся через кампус, как будто просто прогуливался весенним днем. В зале, как он и думал, никого еще не было; он попросил официанта убрать карточку Эдит и сделать так, чтобы за главным столом не оставалось пустого места. Потом сел и стал ждать гостей.
Его место было между Гордоном Финчем и президентом университета; Ломакс, которому предстояло руководить торжеством, сел за три стула от него. Ломакс улыбался и беседовал с соседями по столу; на Стоунера он не глядел.
Зал наполнялся быстро; преподаватели кафедры, которые уже не один год как не разговаривали с ним толком, махали ему с другого конца; Стоунер кивал в ответ. Финч больше помалкивал и внимательно поглядывал на Стоунера; новый молодой президент, чьего имени Стоунер так и не запомнил, обращался к нему, виновнику торжества, непринужденно-почтительным тоном.
Еду подавали молодые студенты в белых пиджаках; некоторых из них Стоунер узнал; он кивал им и заговаривал с ними. Гости опустили серьезные взгляды в свои тарелки и начали есть. В пульсирующем гуле голосов, в веселом постукивании ножей и вилок по фарфору слышалось облегчение; Стоунер понял, что о его присутствии почти позабыли, и смог поковыряться в пище, проглотить что-то для приличия и оглядеться. Если прищурить глаза, лица расплывались; перед ним, точно в рамке, перемещались цветные пятна и нечетко очерченные формы, образуя все новые текучие узоры. Зрелище было из приятных и позволяло, если настроить внимание должным образом, забыть о боли.
Вдруг наступила тишина; он мотнул головой, словно стряхивая сон. У торца узкого стола стоял Ломакс и постукивал ножом по стакану с водой. Красивое лицо, отстраненно подумал Стоунер; до сих пор красивое. Годы сделали это длинное узкое лицо еще более узким, складки казались признаками не столько возраста, сколько повышенной чувствительности. Улыбка была, как всегда, обаятельно-сардонической, голос — как всегда, звучным и уверенным.
То, что он говорил, доходило до Стоунера частично, как будто голос оратора то мощно наплывал из тишины, то снова в нее прятался:
— …долгие годы преданного труда… более чем заслуженный отдых… высокая оценка коллег…
Он слышал иронию и понимал, что так Ломакс на свой лад — после всех этих лет — обращается к нему.
Короткий, сосредоточенный взрыв аплодисментов вывел его из полузабытья. Теперь, стоя рядом с ним, говорил Гордон Финч. Хотя Стоунер поднял на него глаза и напряг слух, он ничего не слышал; губы Гордона шевелились, он смотрел вперед неподвижным взором, потом раздались аплодисменты, и он сел. Встал президент, сидевший по другую руку от Стоунера, и заговорил со стремительно меняющимися интонациями: от лести к угрозе, от юмора к печали, от сожаления к радости. Я надеюсь, сказал президент, что отставка будет для профессора Стоунера не концом, а началом. Он заявил, что университет с уходом Стоунера многое потеряет; подчеркнул важность традиций и необходимость перемен; выразил убежденность, что благодарность навсегда останется в сердцах тех, кого Стоунер учил. Смысла всех этих слов Стоунер не улавливал; когда президент кончил, зал разразился громкой овацией и на лицах появились улыбки. Когда аплодисменты утихли, кто-то крикнул Стоунеру тонким голосом: «Вам слово!» Кто-то другой подхватил, и с разных сторон послышались побуждающие голоса.
Финч шепнул ему на ухо:
— Хочешь, я избавлю тебя?
— Нет, — сказал Стоунер. — Все нормально. Встав, он понял, что ему нечего сказать. Он долго молчал, переводя взгляд с одного лица на другое. Потом услышал свой невыразительный голос:
— Я преподавал… — Он умолк. И начал сызнова: — Я учил студентов в этом университете почти сорок лет. Не знаю, что бы я делал, не будь я преподавателем. Не имей я такой возможности, я бы… — Он запнулся, как будто его что-то отвлекло. Потом произнес с ноткой окончательности: — Я благодарен вам всем за то, что позволили мне преподавать.
Он сел. Раздались аплодисменты, дружелюбный смех. Люди начали вставать с мест и прохаживаться по залу. Стоунер чувствовал, что ему то и дело трясут руку, сознавал, что улыбается, что кивает в ответ на добрые слова. Президент пожал ему руку, сердечно улыбнулся, сказал, что в любой день будет рад, если он придет, поглядел на часы и заторопился к выходу. Зал стал пустеть, и Стоунер, стоя в одиночестве там, где поднялся, собирался с силами, чтобы его пересечь. Он дождался, чтобы внутри что-то окрепло, обогнул стол и двинулся к выходу мимо оставшихся гостей, которые стояли маленькими группами и бросали на него странные взгляды, точно он уже был чужой. В одной из групп был Ломакс, но он не повернулся к Стоунеру, когда тот проходил; и Стоунер был рад, что ему не пришлось после всего, что было, вступать с ним в разговор.
На следующий день Стоунер пришел в больницу, и до утра понедельника, на которое была назначена операция, он отдыхал. Большую часть времени он спал, и его не особенно интересовало, что с ним будет. Утром в понедельник кто-то ввел ему в руку иглу; в полубессознательном состоянии его по коридорам провезли на каталке в странную комнату, где, казалось, ничего не было, кроме потолка и света. Он увидел, как что-то опускается к его лицу, и закрыл глаза.
Очнувшись, он почувствовал, что его подташнивает; болела голова; и была новая боль в нижней части туловища, острая, но не неприятная. Он рыгнул, и ему стало лучше. Провел рукой по плотно забинтованному животу. Потом уснул; ночью проснулся, выпил стакан воды и забылся до утра.
Когда он пробудился, у койки стоял Джеймисон и держал пальцы на его левом запястье.
— Ну, — спросил Джеймисон, — как мы себя чувствуем?
— Кажется, неплохо.
Во рту было сухо; он протянул руку, и Джеймисон дал ему стакан с водой. Он выпил и вопросительно посмотрел на врача.
— Ну что ж, дело сделано, — неохотно проговорил наконец Джеймисон. — Вырезали мы ее. Здоровенная была штука. Через пару дней вам станет намного лучше.
— И я смогу выписаться? — спросил Стоунер.
— Вы сможете встать на ноги дня через два-три, — пообещал Джеймисон. — Но все же разумнее будет вам еще тут побыть какое-то время. Мы не сумели… все удалить, что там есть. Понадобится лучевая терапия. Конечно, вы могли бы приходить и уходить, но…
— Нет, — сказал Стоунер и откинулся на подушку. Он опять почувствовал усталость. — Чем скорее, тем лучше. Я хочу вернуться домой.