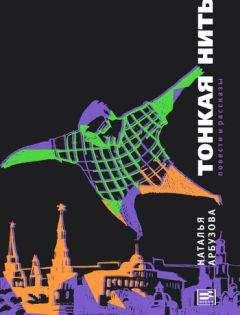Ознакомительная версия.
ПРОЗА О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ
Символ советского андеграунда: котельная. Маленькая, на микрорайон – условное административное деленье шестидесятых. Двухсветный зал с внутренней галерейкой. Облокотясь на перила, распутываешь взглядом сплетенье труб. Ликующие возгласы иных труб доносятся снизу. Музыканты все как один в тельняшках, стирать которые поздно и бесполезно. Тела людей, их белье перешли в режим самоочищенья. Новая грязь не пристает, старая, подсохнув, отпадает, отшелушивается. Кайф от музыки частично подавляет алкогольную зависимость – достигается приемлемый баланс. Своя своих до конца познаша: если кто кого приведет, тот не настучит и не наскучит. Работают якобы посменно – на самом деле днюют и ночуют здесь. Идти некуда: окружающая действительность на несколько поколений облажалась и осрамилась. Тут тебе и Крым и рым. В темноте лишь выйдут постоят руки в брюки. Во он окна светятся там, в мансарде. Не теперешняя мансарда с окнами в зеленой почти отвесно обрубленной металлочерепичной крыше. И не надстроенная по нахалке поверх сталинского кирпичного дома, отчего, глядишь, пошли трещины в стенах квартир. На окраине, в северном предместье, странный четырехэтажный дом с аркой – похоже, строили пленные немцы. Мансарда длинная, и долог путь в нее – без лифта. В разные годы она таила разную жизнь, но всегда числилась мастерской, предоставляемой союзом художников его членам. Котельная шлет мансарде сообщенья точечным фонариком-указкой. Стихия огня – стихии воздуха. Саламандра, пылай – ты, Сильфида, летай. Муза – музе, богема богеме. Нет ответа… глухо, как в танке.
Авангардизм стал обыденностью, соцреализм вошел в моду на западе – художнички поразъехались. Осталась длинная анфилада комнат, большей частью не отапливаемых, по которым вышагивал точно аршин проглотивший, нервный артистичный старик. Умел служить всем музам понемножку и ладить с любыми властями. Висели картины – все евойные, не очень профессиональные, зато сам смотрелся весьма и весьма, а для ЖЭКа все вместе выглядело внушительно. Так и тянулось, по привычному нашему беспорядку. Время от времени появлялась какая-то комиссия и снова выкатывалась подобно волне. Кто-то отлучился за границу не навсегда, и для довершенья злого дела выселения требовалось его присутствие, а налицо было сплошное отсутствие. Кто-то, живучи в Израиле, внес арендную плату за несколько лет вперед. Одним словом, дело запутанное, беспрецедентное, и старик обаятельный, так что. Жил он тут давно, оставив свою однокомнатную квартиру молодой жене. Брак сам собой позабылся с обеих сторон, хоть развода и не было. В мастерской же все удобства, мойся – не хочу (не как в котельной)… и друзья, и праздники, и призраки. Вообще говоря, прошло время и джазовых, и рок-котельных, а тут, глядишь, уцелела. Везде наняли в истопники трезвых низкооплачиваемых узбеков, здесь – нет. Пережиток поглядывал на пережиток, подмигивал ему фонариком, потирая картинный фонарь под глазом. Крутые оценивали с улицы общую стоимость мансардной жилплощади, щелкали белоснежными керамическими зубами.
Сколько на свете разных музык! Старик играет на рояле импровизации в духе Дебюсси. Как он только его, рояль, сюда втащил. В котельной солирует на саксофоне Глеб Поймин. Это который художник? ну и что, старик Виталь Юрьич тоже. Оба посредственные живописцы, и музыканты не первоклассные. Как говорится, лишь бы человек был хороший. А Глебова однокомнатная квартира на Новослободской? уплыла. Когда его не по делу упрятали в Ганнушкина – а я здоров, и ты напрасно меня в болезни обвиняешь, – явилась не запылилась бывшая жена: уведомили. Ключ был, и прописка – Глеб, дурак, прописал. Сменила замок и при доброжелательном попустительстве милиции освобожденного Глеба – ослабленного, подавленного лекарствами – на порог не пустила (сейчас, не при советской власти). Картины пропали… ладно. К счастью, саксофон уцелел: был одолжен другу Сереге, уж полтора года живущему в котельной, где все такие – выпертые из дому. Пошел за саксофоном, да там и остался. Электрички, идучи с Ярославского вокзала, задавали ритм, а это самое главное.
Глеб сказал: Серега, старик там не один… женщина, молодая и несчастная… красивая, блин… надо принять меры. Если Глеб говорит – стало быть, так и есть: он видит сквозь стены, через горы, через расстоянья. Пошли, постояли у двери, робко звонясь. Сдались, хоть Глеб настаивал: она здесь, просто не открывает, когда одна. Кроме тельняшек, в котельной нашелся и морской бинокль – стоило хорошенько поискать. Скоро увидали за цветным стеклом, как ходит – в розовом платье – поправляет волосы, провожает глазами дальние поезда. Поздравили Глеба с благополучно сохранившимся после варварского «леченья» даром ясновиденья. Может, платье и не было розовым, просто казалось таковым сквозь земляничное окошко. Белое, например… но Глеб твердил: розовое, и никаких гвоздей. Ручьи промыли грязную корку снега, к морю стремилась любая щепка – жизнь представлялась в розовом свете. Наконец окно распахнулось, и все как один выдохнули: розовое!
Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез. Имя ее Марфа, старику нравится – Марфинька, но сама предпочитает зваться Мартой. Лучше бы Марией, поскольку недеятельна. Дальняя родственница молодой жены Виталь Юрьича, вспомнившей о нем, когда Марте после раннего развода некуда было деться. Бедняжка не пыталась отспорить свою законную жилплощадь, не располагая никакими средствами, кроме чувствительности и красоты, причем первая сводила на нет все выгоды, предоставляемые второю. Слонялась по девяти не то одиннадцати комнатам – сам хозяин всегда ошибался в счете. Но более всего любила маленькую, с земляничным окошком, где и запеленговал ее экстрасенсорный датчик Глеба. Виталь Юрьич сам кормился, а теперь еще и кормил подопечную пиратским тиражированием дисков. Дело было поставлено бывшим его учеником на широкую ногу, и днем старика устойчиво не было. Марта, выпускница строгановки, делала неплохие пастели, но к заработку это никакого касательства не имело. Так что в один прекрасно апрельский день нарядно-печально-красивая женщина вышла из нестандартного подъезда «дома с мансардой» в наивно-упорном намерении найти работу. Глеб Поймин в то время причаливал к котельной, неся хлеб и воду – простите, водку – на всю компанию. Почувствовав спиною исход, сунул пакет в руки Сереге (тот едва успел вынуть их из карманов), развернулся кру-угом и поспешил под арку, где уж скрылась легконогая беглянка. Догнал возле остановки – стояла озиралась. Сказал серьезно и грустно: весной хорошо продавать цветы. – Как раз об этом думала (нимало не удивилась)… огни большого города (улыбнулась)… всё пишу букеты пастелью из головы… хочется живые потрогать. – Не надо на автобус… до рынка одна остановка. Пришли: Глеб с алкогольной чернотой под глазами, грязен аки боров подзаборный, с ним стройная, лет двадцати пяти, в светлом незаляпанном пальто, кашемировый шарф (шарм) через плечо… наэлектризованные волосы, стук-стук каблучки как у козочки. Марь Семенна, девушке работу с цветами, и чтоб Петрович ее не видал. – Только ради тебя… сегодня он ушел… пусть со мной постоит… утром отправлю составлять букеты… доволен? – Век не забуду.
К вечеру, усталая, несет помятые трубчатые нарциссы и пакет с покупками. Достает оттуда деликатесы, что-то варит, без рецепта и названья, но старик доволен – играет импрессионистскую музыку. Спохватились, позвонили в котельную, пригласили благодетеля. Пустили помыться, выдали одежонку того, что в Израиле. Похорошел. Сварили ему обыкновенные пельмени «Русский хит», налили чуть-чуть водки. Скромно промолчал, благоговейно выпил. Ему дали салату и сыграли сонату – и немного ему полегчало. Да нет, это так, для красного словца: полегчало еще вчера. Звали завтра прийти с саксофоном. Доворочался до утра, надел костюм с еврейского плеча, дежурил в подворотне. Проводил до рынка, проследил, чтоб не попалась на глаза Петровичу. После храбро поехал на Новослободскую – забрать краски, картон и все такое. Застал дома – была суббота – и не устрашился. Приволок добычу в котельную, сел малевать на галерейке, у немытого окна. Получился ангел в облаках, огромное небо и земля с овчинку.
Вечером постучал условным стуком – под мышкой саксофон, непросохшая картина болтается изнанкой к чужим брюкам, лицом наружу, всем на обозренье. Написать такую можно за полдня – начать и кончить, а поди напиши. Преподнес открывшему дверь старику с учтивым: мэтру от любителя. Тот взглянул и надолго смолк, настолько было лучше его художеств. Да и Глебовых прежних тоже – явный прорыв. Играл гость не как всегда и не что обычно: ту бесконечно повторяющуюся тему из «Симфонических танцев» Рахманинова, что ведет саксофон, почти без вариаций, со все более явственной надеждой – она накрывает отчаянье с головой. Наше, неотъемлемое. Разрежьте нас – останется в каждом кусочке. Виталь Юрьич в рассеянье назвал Марфиньку Марфинькой – не поправила. А Марта? Марта пусть идет вязать букеты… или веники… фирма веников не вяжет, фирма делает гробы. Все едино – все на продажу.
Ознакомительная версия.