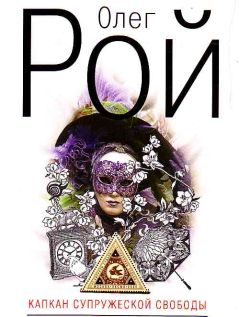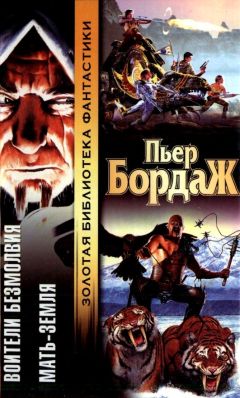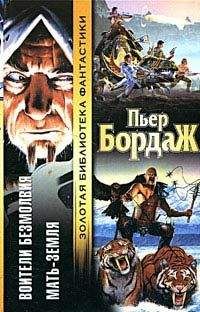— Неужели вы уже уходите, мсье Соколовский? Уходите, не сказав мне ни слова об уровне труппы? Прошу вас, не огорчайте меня так!..
Должно быть, это их художественный руководитель, догадался Алексей. Разумеется, теперь он не мог уйти. И спустя минуту они дружески болтали, посмеиваясь над неважным английским друг друга и обсуждая каждого из немногочисленных участников студии. Луи — свою фамилию он протараторил так быстро, что Алексей не разобрал ее, — оказался человеком с хорошим чутьем и изрядным чувством юмора. Они быстро отыскали среди руководителей молодежных театров разных стран общих знакомых, и их оказалось так много, что оставалось только удивляться, почему два режиссера не столкнулись раньше ни на одном из фестивалей.
— Я, знаете ли, давно слежу за вашим театром на-ю-го-за-па-де… так, кажется? — с усилием выговорил трудное слово Луи и закончил, поблескивая стеклами очков: — И так же давно хочу познакомиться с вами. Странно, что это знакомство произошло в Париже, а не в Москве, но вы и тут опередили меня, дорогой коллега, — посетили меня раньше, нежели я вас. Мы ведь получили приглашение от вашего Министерства культуры посетить Россию, в рамках программы обмена студенческого коллективами… Так что уже в ноябре, я надеюсь, мы вновь увидимся с вами.
— Буду рад, — просто ответил Алексей, улучив наконец возможность вставить хоть слово в монолог восторженного француза. — Только хочу вас предупредить: я нахожусь сейчас в творческом отпуске, и в последнее время мой театр, о котором вы так много, оказывается, знаете, находится на попечении другого художественного руководителя.
— О! — Было заметно, что новость эта слегка огорошила Луи. — Но, может быть, это объясняется тем, что вы заняты новыми проектами? Новой студией?
— Нет. — Алексей надеялся, что коллега не заставит его вдаваться в подробности. — Просто отпуск, ничего более.
— Но тогда… тогда… — почти задыхаясь от нетерпения, проговорил француз, и Алексею показалось, что он буквально видит щелкающие у того в голове шестеренки мыслей и идей. — В таком случае, могу ли я надеяться?… Если ничто не держит вас и вы не связаны никакими обязательствами, мы могли бы какое-то время поработать вместе?
Алексей сделал скучающий, отрицательный жест, и Луи заторопился закончить свою мысль:
— Понимаете, я мог бы договориться с нашими спонсорами, с нашим университетским начальством… Это могла бы быть интереснейшая работа. Скажем, серия мини-спектаклей вроде вашего знаменитого «Зонтика»… Или международный проект — у меня есть связи! — международный проект в области студенческого театра. О! — Глаза его загорелись, и он импульсивно схватил Алексея за руку. — Соглашайтесь, прошу вас! Вы даже не представляете, какая замечательная вещь может получиться из этой идеи!
Алексей задумался, невольно захваченный энтузиазмом француза. Разумеется, не сейчас, не завтра же… но в принципе — а почему бы и нет?
— Я пробуду в Париже еще не больше недели, так что о немедленной реализации проекта не может быть и речи. Но на будущее… вы знаете, это действительно очень интересно. Я подумаю, — пообещал он, крепко пожимая руку коллеги на прощание. И добавил, еще раз обернувшись в сторону сцены: — Мне понравились ваши ребята, Луи. Я согласен работать с ними.
Последний вечер в Париже наступил для него так же неожиданно, как приходят к человеку старость или большая любовь. Алексей должен был лететь в Москву ранним утренним рейсом, а потому согласился наконец провести хотя бы одну ночь под бабушкиным кровом, чтобы наговориться с ней напоследок и, может быть, услышать от нее то, ради чего он проделал весь этот долгий путь. У него было странное, плохо поддающееся логичному объяснению чувство: вряд ли теперь, спустя две эти недели, он знал о Наталье Кирилловне больше, нежели сумел вычитать между строчек ее дневника. И вместе с тем… вместе с тем, ничего не узнав о ней нового, он, безусловно, узнал ее так, будто прожил рядом всю ее длинную и трудную жизнь. И дело было не только в том, что бабушка приняла его сразу и безоговорочно, как принимает мать в свое сердце собственное дитя; дело в том, что каким-то непостижимым образом она тоже знала его, Алексея Соколовского, — знала еще до того, как он переступил порог ее дома. «Может быть, это и значит — голос крови? — думал он, наблюдая за ней в последний раз. — Может быть…»
— Вот это я привез вам из Москвы, — сказал он уже поздним вечером, разворачивая перед Натальей Кирилловной аккуратно запакованное полотно по-прежнему неизвестного ему автора. — Пусть это будет моим прощальным подарком. Хотя, строго говоря, картина и так принадлежит вам — ведь она досталась нам от ваших родителей. Только это — да еще Айвазовский, и старый секретер, и старинная рамка для фото из потемневшего серебра…
Старая женщина смотрела на картину, точно онемев.
— Поди сюда, Эстель, — позвала она дрогнувшим голосом, явно пропустив мимо ушей и Айвазовского, и секретер, и серебряную рамку. С неимоверным усилием прикасаясь плохо двигающейся рукой к поверхности полотна, она гладила его, точно живое, и в ее глазах Соколовский увидел отблеск летнего утра почти вековой давности. — Посмотри, дорогая: ведь это — я!
Живо заинтересованная, Эстель приблизилась к ней и тоже наклонилась над картиной; тут же веселым козленком подскочила и Натали. Три девочки в беседке смотрели на трех обнявшихся женщин задумчиво и строго, точно боясь выдать тайну, к которой они были причастны уже много лет и сохранили в своем сердце, несмотря на все войны и революции.
— Вот эта, самая кудрявая из всех барышень, слева, в сиреневой шляпке, — мечтательно произнесла бабушка. — Неужели не узнаете? Да полноте, на самом деле я ведь вовсе и не изменилась! — И в голосе ее мелькнуло лукавство, совсем молодое по своему озорному задору. — А рядом со мной — Анечка Лопухина… Смотрите, какой удивительный рисунок у ее губ! Стрела Амура — так говорил о них Митя. Да, Митя… Как странно, что они никогда не сошлись, хотя, похоже, оба были неравнодушны друг к другу! А про Соню Барашкову — вот она, справа, с конопушками на носу и с травинкой, зажатой между губ, — про нее я с тех пор так больше ничего и не слышала. Она была моей троюродной сестрой из Киева и тем летом приезжала к нам погостить. Мы совсем потеряли их из виду после революции.
Молчание мягко стелилось вокруг, три женщины не могли оторвать взоров от старой картины, а четвертый в этой комнате — мужчина — не смел оторвать глаз от них. Так похожи друг на друга, так прекрасны сейчас были представительницы трех поколений семьи, что сердце у него сжалось от странной гордости и за них, и за свое размеренное, дозволенное всеми божескими и человеческими законами, уже устоявшееся чувство к ним. В этот миг Алексею в первый раз с того страшного майского дня показалось, что он не одинок и что приговор, о котором он думал в кафе напротив сада Тюильри, может подлежать смягчению или даже отмене.
Тем временем бабушка подняла на него повлажневшие, заблестевшие с особой яркостью глаза.
— Спасибо, Алеша, — тихо сказала она. — Беседка в Сокольниках, эти любимые лица и далекое, неправдоподобно прекрасное лето… Бог мой, да ты снова сделал меня молодой! Поверь, в моем возрасте это дорогого стоит…
И тут Натали, решившая, верно, что минута уж слишком грозится перейти в шквал слез и ненужных эмоций — ох, плохо она еще знала свою бабку! — неожиданно и не к месту ляпнула:
— А я уезжаю в Москву!
Немая сцена была ей ответом.
— Погоди-погоди, — медленно и почти грозно проговорила Наталья Кирилловна, разом забывшая о картине. — Насколько я знаю, в Москву завтра летит Алексей. А при чем здесь ты?
Довольный произведенным эффектом, рыжий бесенок заплясал перед ними в каком-то победном индейском танце.
— Наша университетская театральная студия едет в Россию в рамках программы студенческого культурного обмена! — выкрикнула девушка, не в силах больше держать в себе сногсшибательную новость. — Разумеется, едут не все и не завтра, а только в ноябре. Но кто, как вы думаете, назван среди первых претендентов на поездку? — И она торжественно провозгласила: — Натали Лоран!
Она сделала реверанс и замерла перед ними в изысканной позе. Бабушка хмурилась, мать молча смотрела на нее, а Алексей вновь, в который уж раз, подумал: ей-богу, Татка! Вылитая Татка… Та так же любила огорошить родителей каким-нибудь неожиданным известием и так же часто играла и ерничала перед ними, хотя, в отличие от этой французской девочки, совсем не находила в себе никаких задатков актерской профессии.
А действие в комнате между тем развивалось по своим законам.
— Я не понимаю, — ворчливо говорила Наталья Кирилловна, глядя на внучку с явным неодобрением, — откуда вдруг такие телячьи восторги? Если тебе так уж хотелось побывать в России, это всегда можно было устроить с помощью обычного тура. И почему вдруг именно сейчас, на первом курсе, когда у тебя столько учебных забот?