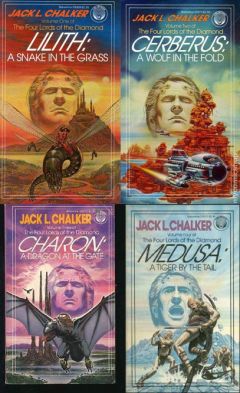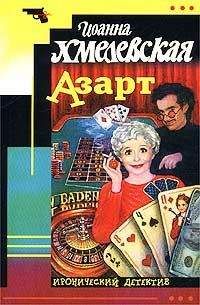Пройдя километра два, он наткнулся на весенний ручей, напился, побултыхал в воде горящей от раны головой и залег на берегу в густом малиннике. Расстояние до пасеки было так мало, что он слышал голоса людей, но уйти дальше не было сил, и к тому же рядом была вода. Он лежал на брюхе, положив голову между лап и прикрыв ими рану. Кровь все еще сочилась по шерсти, насыхая вокруг глазниц твердым комом и привлекая мух. Он вслушивался в движение воронья, рассевшегося по другую сторону ручья, потягивая носом воздух. Ожидающие его гибели птицы были кстати; они охраняли от людей и других хищников. Появись опасность поблизости, вороны взлетят и тем самым подадут ему сигнал. Но они же и выдавали его, указывая своим присутствием место, где отлеживался зверь.
Несколько раз он выползал из укрытия, настораживая ворон, пил воду, остужал голову и опять лежал, отбиваясь от мух и бесполезно вытягивая язык к ране. Подобное уже случалось в его жизни, когда мальчишка с испуга влепил в него заряд дроби, порвал ухо и снес клок кожи на голове. Рана зачервивела, загнила, и он, не нагуляв жиру, остался шатуном. Но тогда оставалось зрение, да и сама рана не была такой опасной. Сейчас же мухи назойливо лезли в глазницы, в его горячее тело, где можно было отложить яйца и продлить свой род.
Слепота лишала его ощущения времени. Если даже в берлоге, засыпанной снегом, он чувствовал, когда на поверхности день и когда ночь, то сейчас потерял ориентиры, а обманчивый серый сумрак не кончался. Засохшая кровь забила пробками глазницы, боль еще раздирала голову, но опыт толкал его искать пищу, обилие которой могло быть спасением. Лекарство находилось в самом организме, его нужно было лишь возбуждать и подогревать пищей. Он ушел от ручья, обрамленного густым шелкопрядником, на открытые места и солнцепеки, где уже зеленела трава. Рассчитывать на что-то другое не приходилось, и он ел траву, отгрызая ее коренными зубами, по-заячьи обгладывал осиновые побеги и свежий малинник. Он кормился почти круглыми сутками, лишь на короткое время замирая в дреме, и все же с каждым днем слабел. Рана уже не горела, как прежде, но тихая, саднящая боль была еще опаснее. Однажды он вдруг уловил запах близкой падали и долго кружил по шелкопрядникам, обнюхивая пни, колодины и молодые заросли. Запах этот казался совсем рядом, будоражил аппетит, но падали нигде не было. С той поры он преследовал его постоянно. Мухи сделали свое дело: он уже загнивал сам. Воронье теперь пасло его неотступно, уверенные в скорой поживе, птицы ходили по пятам. Он мог бы без труда задавить одну из них, особенно наглую, однако даже близость голодной смерти не заставила бы его есть воронье мясо.
Настало время, когда он уже меньше кормился и больше сидел у ручья, с меланхоличной настойчивостью полоща в воде голову. Ослабевшее тело казалось тяжелым, неповоротливым, он часто натыкался на деревья и бередил рану. Как-то раз он лежал на солнцепеке, в траве, чуя, что воронье подступает все ближе и ближе, неся с собой смерть. Но вдруг птицы разом взметнулись в воздух, и их резкий, озлобленный крик говорил, что вблизи появился другой хищник, претендующий на добычу: они кричали точно так же, когда медведь, будучи здоровым, подходил и отнимал пищу у них. Он потянул воздух горячим носом. Сквозь запах травы и падали он четко уловил псиную вонь. И то было странно, что собака не лаяла, хотя наверняка давно взяла его след. Он затаился. Сейчас как нельзя лучше подходил способ — притвориться мертвым. Он замер, замедлил дыхание. В полной неподвижности боль заклокотала сильнее, отдаваясь в мозгу, мухи облепили рану, вгрызались в ее нутро — он терпел, прислушиваясь к движению собаки. Она была уже близко, запах псины резал ноздри, и по нему, как, бывало, в прошлые времена, он узнавал противника на медвежьей свадьбе, так здесь точно определил, что собака крупная, довольно сильная и смелая. Она подходила шагом, изредка замирая, и последние метры передвигалась ползком, видно, подкрадываясь. Она была уже на расстоянии прыжка, когда медведь услышал ее тихое поскуливание. Изголодавшись, он ждал момента, когда потерявшая осторожность собака подойдет еще ближе, чтобы одним ударом сломать ей хребет и пригвоздить к земле.
Он уже был готов нанести этот удар. Но вдруг ощутил прикосновение мягкого собачьего языка к своей ране. Предупредительно скуля, собака осторожно и старательно стала зализывать пустые глазницы…
Когда Тимофей вошел к себе во двор, игравшие на крыше сарая дети посыпались кубарем, облепили отца, закричали вразнобой: — Папка приехал! Папка приехал!
Предпоследняя, кажется, Иришка, прямо с сарая прыгнула на плечи, оседлала, вцепившись ему в волосы, ну а Дарьюшку пришлось снять самому и взять на руки. Он так и вошел в избу, неся на себе гроздь своих девок. Валентина доставала из печи противень с пирогами, на мужа даже не взглянула.
— Мам! Мы папку поймали! Папку поймали! — закричали ребятишки. — Вот он! Держим!
— Держите, держите, — усмехнулась Валентина. — А то улетит…
— Ну, — торжественно воскликнул Тимофей, — слушайте и не падайте в обморок!
Из спальни выглянула теща с младенцем на руках: девчушка таращила глазки и сосала палец, выпятив нижнюю губу.
— Мы переезжаем в Стремянку! — вдруг заторопился Тимофей, срывая весь эффект внезапности. — Я из инспекции ухожу! Насовсем! Навсегда! Пойду на бульдозер! И буду сидеть дома!.. Ну как, довольны? — он обнял ребятишек, сразу всех. — Поедем к дедушке жить?
— Поедем! — хором подхватили девчонки. — Ура! Мы к дедушке жить поедем!
Теща, придерживая одной рукой последыша, перекрестилась, но Валентина лишь бросила взгляд, опрокидывая противень над расстеленным полотенцем.
— Ой, что-то не верится, — наконец сказала жена со вздохом. — С чего это вдруг?
— А с того! — засмеялся Тимофей. — Ты же просила? Вот я и решился!
Дети отпрянули от отца, ринулись к горячим пирогам, расхватали вмиг и забегали, перекидывая горячие пирожки с руки на руку. А Дарьюшка положила свой пирог в передничек и понесла его, дуя полненькими губками.
— Папка! Это тебе пилог! Ешь, вку-у-усненький…
Старшие вдруг притихли, глянули на отца виновато, и никто не решался начать есть.
Жена неожиданно выбежала из избы, оставив открытой дверь. Тимофей снял куртку, сапоги и, довольный, сел. Старшенькая принесла пирог на тарелке и подала.
— Кушай, папа. Голодный, поди?
Остальные тоже бросились за пирогами, чтобы принести отцу, но всем не хватило — Иришка встала в угол и заплакала.
— Тихо! — сказал Тимофей. — Не реветь, а то к дедушке в Стремянку не возьмем.
Жена вернулась какая-то измученная, бледная, вымыла руки и встала к печи.
— Пускай хоть ребятишки школу-то закончат, — проронила она. — Что их отрывать? Две недели осталось.
— Ну пускай! — согласился Тимофей. — А пока увязываться будем, я уволюсь, расчет получу.
— А с новой работой узнавал? Берут там?
— Там пока канитель идет, — бросил Тимофей. — Но разберутся, поди… В Яранку кирпич возят, брус — дома строить…
— Ой, не верится мне, — вздохнула жена. — Как ты надумал-то?
— Ты что? Недовольна? Что тебе еще надо?
Валентина достала последний противень из печи.
— За колбой бы съездить, — сказала она. — Бабы вон корзинами носят… И нам бы хоть кадушечку замочить.
— Ты же не ешь ее! — рассмеялся Тимофей. — Она же воняет!
— Ребятишкам витамин, — сказала жена. — Говорят, полезно…
— Так поехали! — Тимофей подтащил сапоги.
— Близко все повыбирали уже… Вечно мы последние, по оборышам.
— Да я тебя в такое место свезу! — радовался Тимофей. — Хоть навильниками собирай! Хоть литовкой коси!
Он любил моченую колбу, впрочем, как все острое, но есть приходилось только в рейдах, среди мужиков, поскольку в избе, считали Тимофеевы женщины, от нее такая вонь, хоть святых выноси. А наевшись ее в погребе, без хлеба, Тимофей заранее стелил на кухне тулуп и спал там — Валентина на шаг к себе не подпускала…
Выехали уже после обеда. Пришлось поскандалить со старшенькой, которая запросилась с родителями, а к ней мгновенно подключились все остальные, кроме последыша, и поднялся рев. Дети висли на руках, цеплялись за брюки, за материн подол, кто-то уже надевал сапоги, искал игрушечные корзинки, и все плакали хором. Зачинщицу определили в угол, но младшие не успокаивались, просились, размазывая слезы и сопли.
— И меня, папка! И меня возьмите! — тянула Дарьюшка, громоздясь на отца. — И я хосю колбу собилать!
Ни уговоры, ни обещания не помогали, и тогда Валентина рассердилась, гневно сверкнула глазами:
— По углам! Марш по углам!
Дети встали по углам — каждая в свой, указанный когда-то «по чину», однако реветь не перестали. Тимофей с Валентиной так и пошли из избы под этот девичий хор.