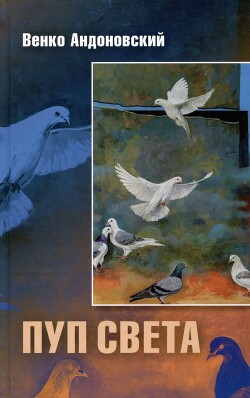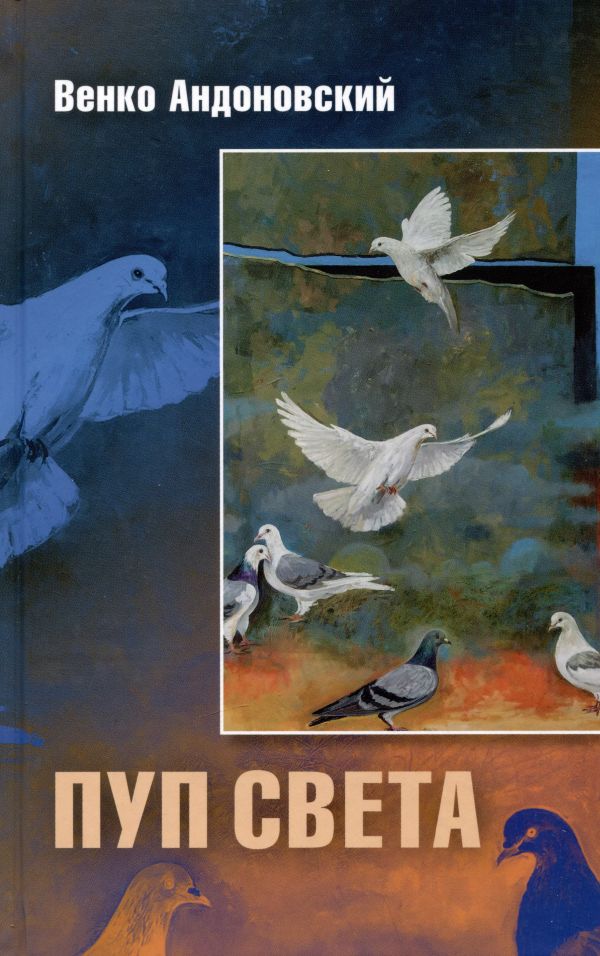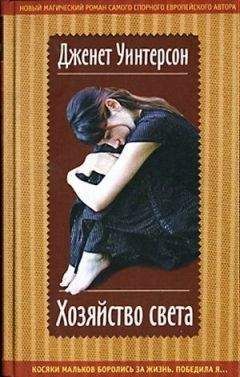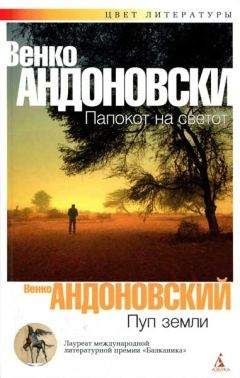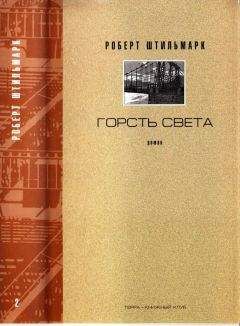— Спасибо за моего ребёнка! Я знаю, что это глупо, но ничего умнее я сказать тебе не могу. То же самое я сказала Марчелло… Никакими словами мне не отблагодарить тебя за то, что ты сделал, — сказала она.
Мой взгляд упал на её плечо: поскольку она была одета в платье на бретельках, было видно, что у неё по коже бегут мурашки от переплетения наших пальцев; это были те же мурашки, та же кожа, что и в гестаповском клубе в оккупированном Белграде. Она поймала мой взгляд и покраснела, потому что знала, что не может оправдать этих мурашек ничем иным, кроме как плотским возбуждением; в комнате было жарко. Чтобы спасти её от румянца стыда, я спросил:
— Ты вправду веришь в память кожи?
Она перестала краснеть, но потрясённо посмотрела на меня.
— Да, это моя мысль, — произнесла она. — Но откуда ты знаешь? — спросила она с застенчивой улыбкой.
— Ты записала её в книге «Философия тела» Михаила Эпштейна. В книге, в которой утверждается, что лучшее определение человека — осязающее существо.
Она по-прежнему молчала, а я добавил:
— Не записывай такие прекрасные идеи на полях книг, есть клептоманы, которые читают только заметки на полях, а не саму книгу. Твои мысли они украдут.
— Ты читал эту книгу после меня? — спросила она, как будто её уличили в чём-то недозволенном.
— Я прочитал её до тебя, но взял ещё раз после того, как ты её прочитала, чтобы посмотреть, что ты подчеркнула. Я прочитал все книги, которые ты брала, чтобы посмотреть, какие пометки ты в них оставила.
Она улыбнулась:
— Значит, меня обнаружили. Библиотекарь меня предал!
И я выстрелил, как из ружья:
— Но он предал — а вернее, передал — тебя в нужные руки. И, насколько я понимаю, меня тоже.
При этом Филипп, который всё время сжимал пальцы другой моей руки через сетку, отпустил их и спросил, как будто открыл что-то, что долгое время было от него скрыто:
— Вы друг с другом знакомы?
Я посмотрел на него с улыбкой:
— Мы с твоей мамой подчёркиваем одни и те же слова во всех книгах. И всё время, что я здесь, мы переписывались через заметки на полях.
Он улыбнулся и сказал:
— Вот здорово! Хотя вы пользуетесь давно устаревшей социальной сетью, есть же современные, электронные.
Мы оба рассмеялись, и Лела погладила его по волосам. В этот момент охранник объявил, что посещение закончено, я провёл пальцами по сетке, и мы расстались. Суд был назначен через семь дней, и я искренне надеялся увидеть их снова в зале суда.
В ту ночь в камере я вспомнил Лелу из видения 1943 года. Но вспомнил рукописно, а не тем шрифтом, которым я пользовался, чтобы увидеть происходящее со мной как с кем-то другим. Интересно: и дьявол тем же шрифтом заставлял меня смотреть на себя как на кого-то другого, и то же самое требовал от меня во имя Господа и отец Иларион. Но дьявол сам писал за меня текст, поэтому он свободно говорил вместо меня «Ян встаёт», «Ян уходит», «Ян смеётся». Он управлял мной как своей куклой, марионеткой. А отец Иларион требовал, чтобы я писал сам, и телом, и душой; и он не разрешил мне доступ к монастырскому компьютеру и шрифтам, а подарил мне тетрадь в кожаном переплёте и ручку, чтобы я мог записать свою прошлую жизнь так, как я её вижу и чувствую. Огромная разница, одно дело, когда кто-то другой говорит о тебе «он», и другое, когда ты сам говоришь «он» о себе. Первое порабощает, второе освобождает.
Итак, рукописный текст открыл мне то, что скрыл шрифт. Несмотря на то, что картина была та же самая, я вспомнил ту часть Лелы, которая была до этого невидима. Это была просто вспышка: она в платье, а я, стоя на коленях, обнимаю ей ноги и целую икры. Это я видел и через шрифт. Но чего я не видел и что рукопись вернула мне как воспоминание, так это чувство, как горят и краснеют её икры. Нет, в этом не было ничего сексуального, но было нечто божественное. Это не было чувством её удовлетворения, не было чувством моего удовлетворения, это было проникновение, это было слияние с Единым через прикосновение моих губ к её крепким икрам, слияние со всем миром, уподобление со всей вселенной, превращение в космическую музыку, космический свет, такой, который можно осязать (по нему бегут мурашки, как по коже на плече Лелы), который можно обонять: когда я читал о назальной памяти, я думал, что наука преувеличивает. Но в ту ночь в камере у меня было обонятельное воспоминание, и я вспомнил (но только частично), чем пах этот свет Лелы: пока что вспомнил, что он пах базиликом, бессмертником и розой. Но мне не хватает ещё многих, многих запахов, чтобы полностью описать этот световой аромат (что за глупость — разве можно что бы то ни было описать полностью?).
* * *
Зал суда был полон: было много журналистов, которым разрешили вести репортажи с процесса. Как ни удивительно, не было душно, отлично работали кондиционеры. За центральным столом восседали пятеро судей; посередине был главный. Справа от судей располагались присяжные, видные в городе люди. Мы сидели в первом ряду, по одну сторону я и отец Иаков, а по другую прокурор, мэр и олигарх, пригласивший иностранных бизнесменов, которых прокурор почему-то называл «туристами». От них ждали инвестиций, и люди знали, как добиться того, чтобы инвестиции были обеспечены.
Я обернулся как раз в тот момент, когда последними в зал вошли Лела и Филипп; они сели, явно возбуждённые. Мелочь, но я успокоился, как будто пришёл кто-то из близких. Судья стукнул молотком, и наступила тишина. Потом он прочитал очень краткое, почти журналистское сообщение о произошедшем, и сказал: «Слово имеет господин прокурор». Прокурор встал и подошёл ко мне. В этот момент отец Иаков взял меня за руку, сжал ладонь и снова вернул её на скамейку.
— Вы получили 17 июля в 13 часов и 7 минут телефонное указание опустить шлагбаум? — спросил он.
— Да, — ответил я.
— Но вы его не опустили. У вас было достаточно времени, чтобы опустить его?
— Да, — сказал я.
— Что же вы сделали вместо того, чтобы исполнить свою профессиональную обязанность? — спросил он, подчеркнув «обязанность».
— Я побежал направо, в сторону, с которой подъезжал локомотив, чтобы спасти ребёнка.
— А что делал ребёнок на железной дороге? — строго спросил он, и я понял, что он собирается обвинить меня по полной.
— Он прилип к железнодорожной шпале. За десять минут до этого я в сторожке приклеил подошву его ботинка, а потом…
Он не дал мне договорить, просто ускорился, как тренированный парижанин, влетающий в движущийся вагон метро.
— Это интересно, — констатировал он. — Вы сапожник?
— Нет, — коротко ответил я.
— Но вы явно были им, причём на ответственном рабочем месте. Была ли какая-то другая причина не опускать шлагбаум, кроме спасения бедного мальчика?
Он был неприятен. Меня сбивали с мысли эти его акценты, слова, проговариваемые курсивом (как это последнее бедный мальчик, в которых явно скрывалась новая угроза и новая сторона, с которой на меня будут нападать), и я вдруг подумал, что то, что он говорит, можно записать на компьютере только с использованием того шрифта и лишь тому, чьё имя не следует упоминать, и кто в одну секунду может разрушить годы и годы труда и добра.
— Я не понимаю, что вы имеете в виду, спрашивая про какую-то ещё причину не опускать шлагбаум? — спросил я.
— Я имею в виду, например, некую неприязнь к иностранным туристам в автобусе?
Я посмотрел на него, не отвечая, почуяв коварную ловушку.
— Нет. В тот момент для меня был важен только мальчик, — сказал я после вынужденной драматической паузы.
Он вдруг повернулся к присяжным; он встал перед ними, воздев руки в отрепетированной и отшлифованной мизансцене, и театрально произнёс:
— Запомните эту формулировку, господа присяжные заседатели. Сорок пять человек менее важны, чем один. Для этого должна быть глубокая аффективная причина, потому что логики тут нет!