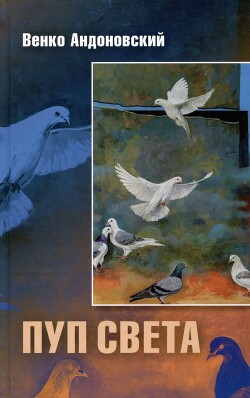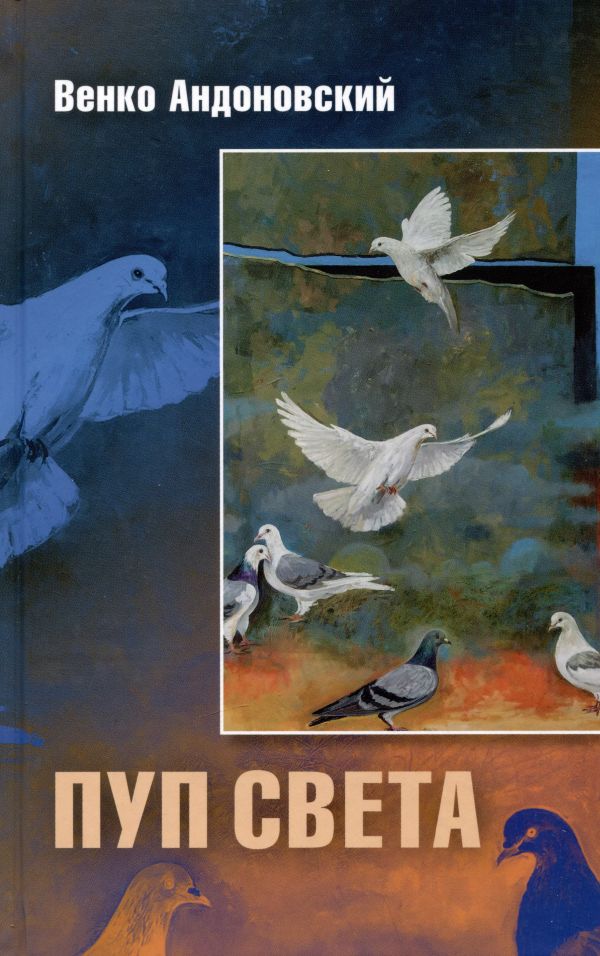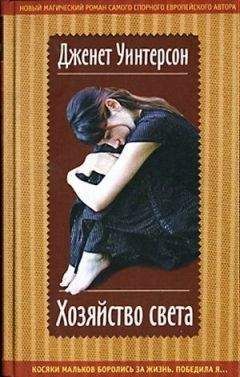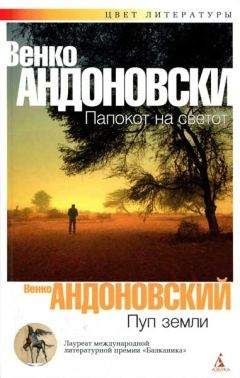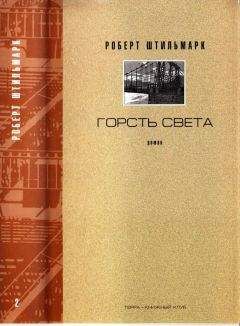Судье нравилось то, что происходило, а то, что происходило, было обычным незнанием того, что есть автор, а что персонаж. Это как если бы слепец критиковал пёструю импрессионистскую картину. Но невежество прокурора могло быть не невежеством, а преднамеренным подлогом. Судья холодно ответил:
— Отклонено. Продолжайте, прокурор.
И когда ему дали разрешение, то стало видно, что аудитория на его стороне, потому что все разом затихли.
— Правда ли, что всемирно известное издательство Галлимар отказало вам в публикации этого романа?
Я разочарованно повесил голову; дело зашло слишком далеко. Откуда он мог это знать? Только кто-то из театра мог видеть эти письма. И мне стало ясно, почему оба конверта были заклеены скотчем; кто-то открыл и прочитал письма.
— Подсудимый, ответьте на вопрос! — прервал меня голос судьи.
— Да, — сказал я.
— Вы были болезненно честолюбивым писателем? — спросил прокурор.
— Да, — сказал я, помолчав. — Я болезненно желал мировой славы. Но не добился её. И тут прокурор сказал, как будто вдруг сбросив бомбу в зале суда:
— А вы раньше убивали кого-нибудь из иностранцев?
Я не увидел его коварного замысла и сразу же отреагировал:
— Ерунда! Что за вопрос?!
И он подождал, как боксёр, который толкнул ослабевшего противника на канаты и ждёт, когда тот по инерции отскочит назад, чтобы нанести последний удар:
— Правда ли, что литературный агент Клаус Шлане упал, как подкошенный, с инфарктом через три секунды после разговора с вами в апреле на Франкфуртской книжной ярмарке? Свидетели говорят, что вы довольно желчно разговаривали с ним о вашей славе.
Я так и не узнал, кто дал эту информацию прокурору Милошевичу. Только Люпчо знал про Шлане, но мне и в голову не приходило, что он мог снабдить прокурора информацией; была только одна возможность: кто-то подслушал мой разговор с Хельгой Шлане в театральном буфете, и это был тот самый человек, который вскрывал мои письма. Кто знает, сколько денег он получил от Милошевича за эту информацию. И пока я клялся сам себе, что если переживу этот процесс, то полностью скроюсь от мира, Иаков уже протестовал:
— Замечание, господин судья. Моему клиенту вменяют вину по делу, по которому нет обвинения.
Судье пришлось отреагировать на это, потому что было кристально ясно: меня не обвиняли в убийстве Шлане, если это вообще было убийством. Он неохотно сказал, как будто высосал целый лимон без сахара: «Принято». А прокурор, как будто он перед собой держал сотню сценариев, продолжал бомбардировать:
— Ладно. Вернёмся к мальчику. После того, как вы приклеили ему подошву, вы дали ему 5 килограммов опасного полужидкого клея «Магнетин», чтобы он отнёс его домой. Почему, когда вы знали, что груз слишком тяжёл для него, а клей опасен?
— Неправда, там не было никаких пяти килограммов, в банке оставалось клея на два пальца. И я дал ему остатки клея, потому что меня тронул его рассказ про друга с такой же проблемой.
— Господин Ян, вам не кажется, что это немного безответственное поведение? К тому же пустить ребёнка идти по железнодорожным путям. Ваш начальник доводил до вашего сведения, что маленький мальчик вертится около путей, но вы не приняли никаких мер!
Внезапно позади себя я услышал, как Филипп воскликнул:
— Это неправда! Ян сказал, чтобы я шёл через церковь. Но там стояли эти трое, которые всё время бьют меня. Это я виноват, что пошёл по рельсам, а не Ян! И судите тех, которые меня били, а не Яна, который меня спас!
Весь зал повернулся к мальчику. А тот стоял с широко открытыми глазами и трясся от осознания несправедливости, которую надо мной совершали. Даже если бы меня приговорили к смертной казни через повешение, эта сцена с Филиппом была моей моральной победой, моей лучшей защитой. Судья такого не ожидал, он опешил. Он посоветовался с судьёй, сидящим рядом с ним, а потом обратился к Леле:
— Прошу вас, пусть он сядет. Его допрашивали, на допросе он такого не говорил.
— Ни о чём вы меня не спрашивали! Ян самый добрый человек в мире, а вы его судите?! Как вам не стыдно! — закричал мальчик, а Лела потянула его за рукав и стала успокаивать, положив его голову к себе на колени.
После этих слов ребёнка в зале суда повисла мёртвая тишина. Эта тишина порождала надежду, что мир всё-таки не до конца потерян и что, может быть, дети когда-нибудь его спасут, если не испортятся, пока вырастут. Прокурор вдруг оказался в ситуации, когда нужно срочно потушить непредвиденно вспыхнувший пожар:
— Само собой разумеется, что обвиняемый — самый добрый человек на свете для того, чью жизнь он спас. Но девушка, сопровождавшая датчанина, рассказывает, что лучший человек в мире вытащил табельный пистолет и заставил её подойти к нему. Затем он залез ей под лифчик, достал оттуда несколько купюр по 10 евро, которые потом залил своим клеем, насчёт которого у него явно навязчивая идея, цинично заявив, что поменяет их на банкноты покрупнее. Из-за того же клея девушка попала в больницу, где ей еле отмыли пальцы… Как давно у вас не было секса, обвиняемый? Возможно, вы испытывали ненависть к датчанину за то, что у него есть женщина, а у вас нет…
Иаков вскочил, и я впервые увидел, как монашеское смирение переходит в гнев, потому что попирают Христа, попирают истину, любой ценой.
— Замечание! Вопрос не имеет отношения к делу и относится к личной жизни подсудимого! Если вы не примете это замечание, я попрошу господина прокурора предоставить полные презервативы его клиента, чтобы доказать мне, что он ведёт регулярную половую жизнь, и пустые презервативы моего клиента, как доказательство обратного!
В зале суда кто-то засмеялся. Судья примирительно сказал:
— Принято. Подводите итог, господин прокурор, пора заканчивать.
При этом прокурор встал у своей скамьи (перестав наконец театрально расхаживать по залу) и начал свою заключительную тираду:
— Таким образом: этот человек — сочетание агрессивности и безответственности. На допросе мальчик показал, что на железной дороге на него напали шершни, что неудивительно, учитывая запах клея; пытаясь защититься, несовершеннолетний уронил слишком тяжёлую для него банку, после чего клей пролился на шпалы, ребёнок наступил на неё и остался прилипшим на путях…
И тут снова раздался ангельский голос маленького человека:
— Неправда! Я увидел на шпале муравья и не хотел на него наступать, поэтому пошёл обратно, не посмотрев на предыдущую шпалу, где разлился клей. Я ждал, пока муравей уйдёт, а сам прилепился. И я ещё не научился завязывать и развязывать шнурки!
В зале суда поднялся шум и раздался одобрительный смех, несколько смягчивший действие окровавленного ножа прокурора, ножа, которым он вскрывал меня вживую. Судья был в ярости. Он приказал Леле и ребёнку покинуть зал суда, и их удалила охрана. Затем он снова дал слово прокурору и тот продолжил:
— Затем за церковью послышался звук локомотива. Мальчик кричал во весь голос, но обвиняемый не вышел. Почему? Представьте, что он сказал на допросе: он кормил свою чёрную кошку, которая очень громко мяукала. Я спрашиваю вас, господа присяжные заседатели: кто здесь издевается над судом? Может быть, нам надо осудить муравья и кошку, мяукающую громче гудка тепловоза, вместо человека, пытавшегося убить полный автобус иностранцев? А мальчик? Мальчик попал в беду по ротозейству человека, явно завидовавшего связи датчанина с нашей гражданкой. Человека, полного ненависти к иностранцам из-за отвергнутых романов. Ненависти к нашим гостям, гостям уважаемого бизнесмена господина Палмотича (при этом прокурор указал на него, а тот даже головой закивал, как будто его представили перед ток-шоу), который по своим частным каналам привёз этих благородных людей для того, чтобы они вкладывали капиталы в наш город, желая помочь нашему мэру (тут прокурор театрально указал и на него). И самое главное, господа присяжные: очевидно, что ребёнок был нужен только как алиби для этого преступления. Он намеренно заклеивает его ботинок магнетином и подучивает взять опасное ведёрко. Зачем? Чтобы иметь предлог не опускать шлагбаум. При этом он обзаводится высокоэтическим обоснованием — якобы спасает ребёнку жизнь. Такова жалкая правда о его «героизме». Вот и всё, господин судья и господа присяжные.