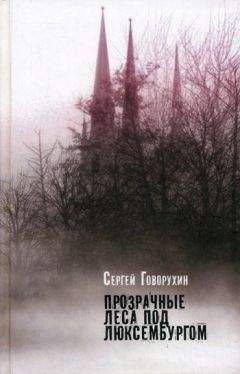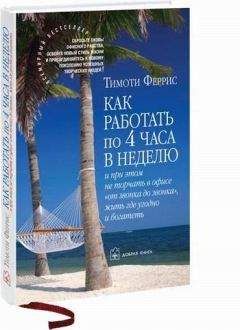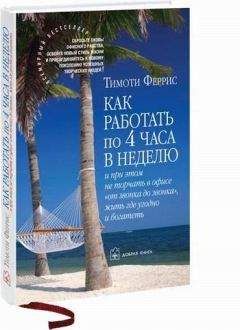– Ты прости меня, Сонечка, – как можно деликатнее и от того еще больше смущаясь, сказала Ниночка, – но мне кажется, ты можешь им помешать… Ведь они, вероятно, счастливы.
Мать резко встала. Она собиралась ответить что-то гневное, оскорбительное, но вдруг поняла, что сейчас права не она, а ее легкомысленная подруга Ниночка Ветрова.
Наступает время, когда матери начинают мешать своим сыновьям. И это время неизбежно. Да, это не касается ее сына – не такие у них отношения, но сейчас (пусть ее предположения тысячу раз справедливы) имеет ли она право вмешиваться в его жизнь?..
– Что же мне делать, Ниночка? – опускаясь на стул, беспомощно спросила мать.
Они поднимались по затертым грязным ступеням. Тускло отбрасывая тени, мерцала над головой закоптившаяся лампочка.
Стены, лестничные марши, перила – одним словом, все в этом фантастическом, будто вырванном из другого измерения, подъезде было испещрено рисунками и граничащими с помешательством изречениями граждан на тему «Мастера и Маргариты».
Но основное место на стенах, окнах и потолках занимали цитаты из самого Булгакова, и создавалось ощущение, что если подняться с первого до последнего этажа, то можно прочесть роман целиком.
– Где мы? – оторопело спросила Наташа.
– В этом подъезде находилась знаменитая квартира пятьдесят из булгаковского «Мастера и Маргариты», – объяснил Левашов.
– Ты любишь Булгакова?
– Я люблю тебя. А к Булгакову я спокоен.
– Тогда зачем мы здесь? Ты не Мастер, я не Маргарита…Левашов пожал плечами.
– Мне почему-то захотелось привести тебя сюда… Скоро эти квартиры выкупят, закрасят стены, установят домофоны, и больше ни одна влюбленная, временно безработная пара не сможет распить здесь бутылку портвейна…
– Почему портвейна? – удивилась Наташа.
– Потому что здесь можно пить только портвейн. И только из горлышка, – назидательно сказал Левашов.
– Женька, – Наташа прижалась к Левашову. Она повернула голову и прочла надпись на стене: – «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус…» Как просто, – задумчиво сказала она, – никого не трогаю, починяю примус. И самое главное: никто не трогает меня…
Они поднялись на третий этаж, уселись на подоконник.
Неприкрытая, с выбитыми стеклами оконная створка слегка раскачивалась от ветра и поскрипывала в тишине московского колодца.
Левашов достал бутылку портвейна, опалил зажигалкой полиэтиленовую пробку и сорвал ее зубами. Сделав несколько глотков, он протянул бутылку Наташе.
Наташа перевела дух, перекрестилась и отчаянно приложилась к бутылке.
– Господи, какая гадость! – болезненно морщась, выдохнула она, возвращая бутылку Левашову.
– Ты что же, в юности портвейн не пила? – искренне удивился Левашов.
– Я пила сухое белое вино и не шлялась по подъездам, – заявила Наташа.
– Пропала жизнь, – сокрушенно вздохнул Левашов и ополовинил бутылку. – Будешь еще?
– Давай, чего уж теперь…
Левашов достал сигареты.
– Знаешь, а я в среду купил тебе целый пакет косметики «Сальвадор Дали», – сказал он. – Огромный такой пакетище…
– У меня что, по-твоему, косметики нет?..
– Я отдал его продавщице из коммерческой палатки. Весь пакет…
Наташа взяла у него сигарету, закурила.
– Женька, ты меня не идеализируешь? – прищурилась она. – Зачем ты мне это рассказываешь? Я обыкновенная баба. Вздорная, капризная, порой ревнивая… И я правда не понимаю, почему моя косметика должна доставаться какой-то продавщице?..
– У нее муж погиб там, в Афганистане, – не сразу ответил Левашов. – Молодая, интересная, по сути – старуха. Ни детей, ничего… Руки с облезшим маникюром…
Наташа нервно покусывала губы.
– Женька, – неожиданно всхлипнула она, – ты всегда будешь таким?
Он обнял ее, прижал к себе – маленького растрепанного воробышка.
– Я буду разным. И плохим и хорошим. Иногда ты будешь меня ненавидеть… Но я всегда буду с тобой. Мы будем жить долго. Сколько до нас еще не жил никто. А потом мы придем в этот дом, поднимемся по этой лестнице и уйдем в небо, как когда-то ушли они…
– Кто?
– Мастер и Маргарита…
– Какая чудесная сказка, – завороженно сказала Наташа. – А как же домофоны?
– В том-то и дело, – сухо сказал он, – что все сказки, в конце концов, разбиваются о самый банальный домофон…
Наташа взяла из его рук бутылку.
– Знаешь, Левашов, когда-нибудь у нас будет большая квартира, дружная семья, спокойная работа… И это неизбежно. И я этого не боюсь. Потому что я впервые счастлива. И впереди у меня еще столько счастья! И я его никому не отдам.
Она поднесла бутылку к губам и, к изумлению Левашова, выпила ее до конца.
– Не шалю, никого не трогаю, починяю примус… Пойдем домой, Жень…
«Наташка!
У меня не хватило решимости сообщить тебе о предстоящем отъезде… Я не мог допустить, чтобы наши последние дни были омрачены твоими тревогами. Прости меня.
Помнишь, ты спросила: “Если тебя позовут вновь – ты пойдешь?”
Уже тогда я знал, что меня вот-вот позовут. Этот день наступил. Не пойти я не мог.
Я уезжаю в Таджикистан. Там война, до которой никому нет дела. И я обязан рассказать об этой войне. Я не знаю, нужно ли это кому-нибудь, кроме меня, но это нужно мне. А значит, и тебе. А это уже немало.
Я пишу это письмо и уже скучаю по тебе, нахохлившийся мой воробышек. Я так и не успел поносить тебя на ладонях…
Знаешь, меня могли убить десятки раз. Иногда мне казалось, что меня больше нет. И только теперь я понимаю, что со мной никогда ничего не случится. Потому что у меня есть ты, родная, единственная моя…
Если же я задержусь по независящим от меня причинам, знай: тебя не оставят. Знай и забудь об этом. Потому что я вернусь все равно.
Я пишу это письмо дома, на нашей кухне. Ты уже спишь, как всегда раскинувшись посреди кровати и спрятав руки под подушку, а твоя левая пятка легкомысленно торчит из-под одеяла. Сейчас я ее поцелую, ты недовольно дернешь ногой, еще глубже забьешься в подушку и… проснешься.
Так будет всегда. Всю нашу жизнь. Ты будешь ложиться раньше и ждать меня, а я всегда буду возвращаться.
Спи. Я люблю тебя».
…Плотность огня усиливалась. «Духи» несколько раз били из гранатометов. Используя перепад высот, прижимали десантников к земле огнем двух пулеметов.
«Значит, есть у них гранатометы, – машинально отметил Левашов. – Выстрелы берегут, сволочи!»
Десантники навскидку отвечали из «мух». Больше от отчаяния. Постоянный огонь с той стороны не оставлял возможности вести прицельную стрельбу – пули крошили вековые камни, жутко завывая на рикошетах.
Сколько это продолжалось? Семь-восемь, максимум десять минут. Казалось – вечность.
В группе Истратова уже было пятеро убитых и четверо раненых.
Посеченный осколками, забившись среди камней, как в детстве под одеялом, истек кровью Ким Балабанов. И уже никто ничем не смог ему помочь…
Были убиты Шарафутдинов и Осипов. И навсегда замолчал один из трех пулеметов…
Умер на руках у Левашова Вагин. Он сам закрыл ему глаза…
Левашов не надеялся, что они выберутся из этого огневого мешка. Если случится чудо, то да. Скорее всего – нет.
Но в любом случае ему предстояло взять камеру и снимать. В конце концов, он здесь именно для этого. Но как же было непросто, перекинув за спину автомат, поменять надежное укрытие на почти открытую позицию и прильнуть к визиру видеокамеры…
Сколько раз ему приходилось слышать профессиональные термины: плавная панорама, интересная точка съемки… Но это было там, на заснеженной «натуре» среднерусской полосы, в хорошо отапливаемых павильонах Останкино…
Сейчас ему было необходимо найти «интересную» точку здесь. А она была только одна, эта «интересная» точка – в грохоте и вспышках обжигающе-гибельного металла, посреди яростной, для кого-то последней схватки…
В несколько бросков Левашов преодолел расстояние до намеченного места, упал среди камней, вросся в землю, навел объектив…
Вот она, непридуманная, не смонтированная из различных эпизодов – подлинная неистовая картина боя, в котором у тебя, как и у остальных, ровно столько же шансов выжить и ровно вдвое больше шансов умереть.
Вот они, перекрестные автоматные очереди, приближенный трансфокатором разрыв, леденящий сердце цвирк пули в нескольких сантиметрах от накамерной пушки…
Левашов, конечно, не услышал своей пули. Он всего лишь хотел добежать до соседнего камня и снять убитого пулеметчика. Пуля вошла прямо под колено раскаленным, пробивающим тело гвоздем и опрокинула его на землю. На мгновение ему показалось, что он споткнулся…
Левашов почувствовал, как пульсирует и бьет толчками из раны кровь и с каждой секундой становится невыносимее боль. Он рванул из разгрузки жгут и сильно перетянул ногу выше колена. Попытался опереться на ногу – нога не подчинилась.