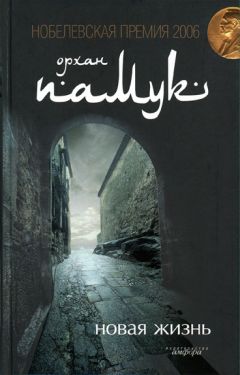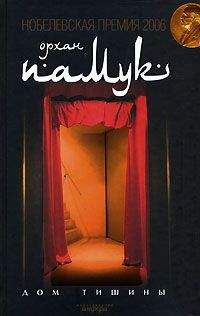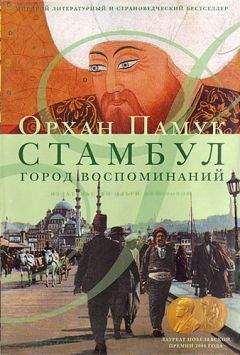На сумрачный сад, словно на кладбище, спускался вечер, усиливая его безмолвие, и тогда Сурейя-бей внезапно заговорил о том, чего я ждал уже несколько часов. Сурейя-бей рассказывал об одном японском миссионере-католике, с которым случайно познакомился в окрестностях Кайсери, когда тот пытался заниматься промывкой мозгов населения во дворе одной мечети, и вдруг он внезапно сменил тему: он не мог вспомнить, откуда взялось название карамелек «Новая жизнь». Но он думал, что волшебное имя оказалось подходящим, так как карамель ассоциировалась у людей, живущих на этих землях, с большим количеством времени, связывая их потерянное прошлое с новым вкусом и новым сознанием. Несмотря на то что конфеты и само слово «карамель» считались французским заимствованием, это было не так. Вообще-то, турецкое слово «кара», «черный», впоследствии перешедшее в индоевропейские языки, было одним из основных слов в языке людей, живших на этих землях десятки тысяч лет, и являлось префиксом многих слов, обозначавших все, что имело черный или темный цвет; так что он, Сурейя-бей, тридцать два года писал это слово на каждой обертке своих «кара-мелек».
«Ладно, а Ангел?» — спросил неудачливый путник, терпеливый страховой агент, несчастный герой книги.
Вместо ответа Сурейя-бей прочитал наизусть восемь из десяти тысяч стишков, написанных им на обертке. Простодушные ангелы не были заманчивыми, они не будили моих детских воспоминаний, они делали мне знаки из четверостиший, в которых их сравнивали с красавицами всего мира, уподобляли сонным девушкам, окутанным сказочным, колдовским очарованием, и все больше наделяли детскими чертами, что мне очень не нравилось.
Сурейя-бей объяснил, что он сам написал все стихотворения, которые прочитал. Он написал примерно шесть тысяч из десяти тысяч четверостиший на обертках карамелек. В те золотые годы, когда оборот достигал невообразимых размеров, он иногда писал по двадцать стихов в день. Разве император Анастасий, начав чеканить первую византийскую монету, не приказал поместить на ней собственный портрет? Старик напомнил мне, что некогда его творения хранились в банках во всех бакалейных лавках этой страны между весами и кассой, и что в десятках миллионов карманов лежал предмет, носивший его печать, и что когда-то карамельками пользовались вместо мелочи; он сказал, что он, как император, некогда отпечатавший монету, насладился всеми благами жизни: властью, богатством, удачей, красивыми женщинами, славой, успехом и счастьем. И поэтому ему совершенно не нужно страховать жизнь. Но чтобы утешить своего молодого друга-агента, он расскажет, почему он решил поместить на карамельки рисунок ангела. В молодости он часто ходил в кино в Бейоглу и очень любил фильмы с Марлен Дитрих. Особенно ему нравился фильм «Der Blaue Engel» — «Голубой ангел». Фильм, снятый по роману немецкого Генриха Манна, вышел в турецком прокате. Сурейя-бей прочитал роман, в оригинале называвшийся «Профессор Унрат». Профессор Унрат, которого в кино играл Эмиль Яннингс, был скромным школьным учителем. И однажды он влюбился в женщину легкого поведения. Хотя женщина выглядела как ангел…
Дул ли на улице сильный ветер, шелестевший листвой деревьев? Или же мой разум, унесенный ветром, слушал себя? Некоторое время я словно «отсутствовал», как обычно говорят добрые учителя про своих мечтательных и задумчивых учеников, смущающихся из-за своей невнимательности настолько, что их всегда хочется простить. Видение моей молодости промелькнуло у меня перед глазами, словно сияющие лучи чудесного, недосягаемого корабля, исчезавшего в сумраке ночи. В безмолвии, куда я погрузился, я, конечно, понимал, что Сурейя-бей продолжает пересказывать печальный сюжет фильма и романа, который он любил в молодости, но я будто ничего не слышал и не видел.
В это время в комнату вошел его внук, зажег свет, и я мгновенно заметил одновременно три вещи: 1. Люстра на потолке была точно такой же, которую Ангел Желаний дарил каждый вечер счастливым победителям вместе с бесподобными советами о жизни под куполом бродячего цирка в городе Виран-Баг. 2. В комнате настолько стемнело, что я уже давно совершенно не видел старика-кондитера, чье имя, Сурейя, обозначало созвездие «Плеяды», и точно так же называлась и люстра, которую дарили в цирке. 3. И он меня совершенно не видел, потому что был слепым.
Прежде чем агрессивно настроенный и высокомерный читатель начнет насмехаться над моими интеллектуальными способностями и вниманием за то, что я в течение шести часов не замечал, что человек слепой, могу я так же резко спросить: а вы проявили достаточно внимания и сообразительности, все ли поняли в этой книге? Например, сможете ли вы сейчас вспомнить описание той сцены, где впервые говорится об Ангеле? А сможете сразу сказать, как отразилось на «Новой жизни» перечисление названий фирм в произведении дяди Рыфкы «Герои железной дороги»? Вы заметили, почему я впоследствии понял, что Мехмед думал о Джанан, когда я убивал его в кинотеатре? В жизни таких неудачников, как я, печаль проявляется в виде злости, которую мы обычно пытаемся выдать за сообразительность. И это желание выглядеть умным в конце концов портит все.
Я, занятый своими собственными страданиями, понял, что старик был слеп, по тому, как он смотрел на люстру, светившую над нами, и я почувствовал к нему уважение, даже восхищение и, честно говоря, некую зависть. Он был высоким, стройным, изящным и для своего возраста выглядел довольно крепким. Он ловко пользовался руками и пальцами, голова у него отлично работала, и он мог проговорить шесть часов, не перестав быть интересным мечтательному убийце, которого упрямо продолжал считать страховым агентом. Ему удалось достичь некоторого успеха в молодости, прожитой им счастливо и с удовольствием; и хотя его успех растаял и исчез в желудках миллионов людей, а шесть тысяч его стихотворений были выброшены в мусор вместе с фантиками от конфет, это дало ему возможность здраво и с оптимизмом размышлять о своем месте в мире; и вдобавок он в свои восемьдесят с лишним мог выкуривать по две пачки сигарет в день, получая от этого огромное удовольствие.
В тишине он почувствовал мою грусть — слепые очень хорошо чувствуют людей — и попытался утешить меня: такова жизнь, есть и случайность, и удача, есть и любовь, и одиночество, радость и печаль, есть и судьба, и свет, и смерть, но есть и неясное счастье. Обо все этом не следует забывать. В восемь часов по радио будут «последние известия»; его внук сейчас включит; не соглашусь ли я остаться с ними на ужин?
Я извинился и объяснил, что в городе Виран-Баг меня ждет очень много желающих застраховать жизнь. Я немедленно вышел из дома, прошел через сад и оказался на улице. На улице, ощутив прохладу весенней ночи, я почувствовал себя одиноко.
Что мне теперь делать? Я узнал все, что хотел, и все, что не хотел; я постиг все тайны, сопряженные с приключениями и путешествиями, которые сумел выдумать для себя. Часть моей жизни, которую можно назвать моим будущим, была мраком, как городок Сон-Пазар, позабытый у подножия гор, вдалеке от уличных фонарей, веселых ночей, шумной толпы и хорошо освещенных дорог. Какая-то самоуверенная собака два раза серьезно гавкнула, и тогда я спустился с холма.
В ожидании автобуса, который увезет меня из этого маленького городка на краю света к гомону и давке мегаполиса, к рекламе сигарет, бутылок газировки и свечению экранов телевизоров, я бесцельно бродил по улицам. Так как у меня больше не осталось надежд и желаний постигать смысл и единство реальности мира, книги и моей жизни, то сцены повседневной жизни, среди которых я оказался, прогуливаясь по улицам, ничего мне не подсказывали. Я наблюдал через открытое окно за тем, как ужинала семья, собравшаяся вместе за столом. Вы, конечно, тоже представили, как они выглядели. Из плаката на стене мечети я узнал, когда начнутся курсы по изучению Корана. В кофейне за изгородью я заметил, что турецкая газировка «Яблочко» здесь все еще сопротивлялась натиску кока-колы, «Швепса» и «Пепси», но не придал этому значения. Я наблюдал, как мастер ремонтировал колесо перед своим магазином велосипедов в свете витрин, а его друг бродил вокруг него с сигаретой в руке и болтал с ним. Почему я решил, что они друзья? Может быть, они враждовали? В любом случае смотреть на них было не слишком интересно, хотя и не слишком скучно. Моим читателям, которые считают меня слишком пессимистичным, я скажу, что, сидя в кофейне за красивой изгородью, я почувствовал, что смотреть на них — гораздо лучше, чем совсем не смотреть.
Приехал автобус, и я покинул городок Сон-Пазар. По петляющей дороге мы поднялись в горы и, с тревогой слушая скрип тормозов, спустились вниз. Нас несколько раз останавливали на контрольно-пропускных пунктах, мы вытаскивали и показывали паспорта, демонстрируя их военным. Между тем горы и контрольно-пропускные пункты остались позади, наш автобус набрал приличную скорость и помчался, не сдерживаемый ничем, как сумасшедший, по широким и темным равнинам, а мои уши начинали различать печальные ноты старой, хорошо знакомой музыки в ворчании мотора и веселом, радостном щебетании колес.