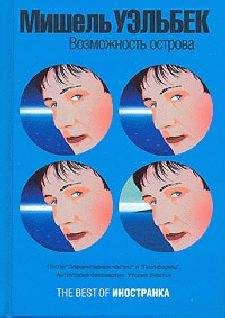Мы поболтали об этом минут пятнадцать, а потом неотвратимо, словно повинуясь закону природы, перешли к самой сути, и я заговорил о своём романе с Эстер. Я рассказал Изабель все, с самого начала и до мадридской party по случаю дня её рождения; мой рассказ длился больше двух часов. Она слушала внимательно, не перебивая, и без особого удивления. «Да, ты всегда любил секс…» — вполголоса обронила она, когда я высказывал какие-то свои эротические соображения. Когда я кончил, она сказала, что уже давно о чём-то таком догадывалась и рада, что я решился обо всём ей рассказать.
— По существу, в моей жизни были, наверное, всего две женщины, — подытожил я. — Одна, то есть ты, недостаточно любила секс, а другая, Эстер, недостаточно любила любовь.
На этот раз она не стала скрывать улыбку.
— Это точно, — произнесла она каким-то другим, удивительно лукавым и юным голосом, — не повезло тебе… — И, подумав, добавила: — В конце концов, мужчины всегда недовольны своими женщинами…
— Да, исключения — редкость.
— Просто они хотят прямо противоположных вещей. Правда, женщины теперь тоже такие, но это случилось сравнительно недавно. В сущности, полигамия, наверно, была неплохим выходом из положения…
Грустная вещь — крушение цивилизации, грустно видеть, как тонут её лучшие умы: поначалу чувствуешь себя в жизни не слишком уютно, а под конец мечтаешь об исламистской республике. Ну, или, скажем, немного грустная — безусловно, бывают вещи и погрустнее. Изабель всегда любила теоретические дискуссии, отчасти это меня в ней и привлекало; насколько бесплодным, а иногда и пагубным бывает теоретизирование ради теоретизирования, настолько же глубоким, творческим и нежным оно может оказаться сразу после любви — сразу после настоящей жизни. Мы смотрели друг другу прямо в глаза, и я знал, я чувствовал, что-то должно произойти, казалось, все звуки в кафе стихли, я словно вступил в полосу тишины, только ещё не решил, на время или окончательно, и наконец, по-прежнему глядя мне прямо в глаза, чётко и убеждённо она сказала мне: «Я до сих пор люблю тебя».
В ту же ночь я остался у неё, и в следующие ночи тоже — сохранив, однако, за собой номер в отеле. Как я и ожидал, квартира у неё была отделана с большим вкусом; находилась она в маленьком особняке среди в парковой зоны, в сотне метров от океана. Я с удовольствием кормил Фокса и водил его на прогулку; он теперь бегал не так быстро и меньше интересовался другими собаками.
По утрам Изабель садилась в машину и ехала в больницу; большую часть дня она проводила в палате матери; по её словам, за больной хорошо ухаживали, теперь это величайшая редкость. Каждый год летом во Франции начинался сезон отпусков, и каждый год в больницах и домах для престарелых множество стариков умирали от отсутствия ухода; но никто уже давно не возмущался, в известном смысле это вошло в обычай, превратилось во вполне естественный способ решить статистическую проблему, снизить процент пожилых людей, неизбежно оказывающий пагубное влияние на экономический баланс страны. Изабель была не такая; пожив рядом с ней, я вновь осознал её моральное превосходство над большинством мужчин и женщин своего поколения: она была гораздо более благородной, внимательной, любящей. В сексуальном же плане между нами не произошло ничего; мы спали в одной постели, нисколько не смущаясь, но и не имея сил смириться с этой ситуацией. Честно говоря, я устал, да и жара стояла изнуряющая, энергии во мне было не больше, чем в дохлой устрице, и этот ступор распространялся на все; днём я пытался писать, усаживался за маленький столик, глядел на сад, но в голову ничего не шло, все казалось неважным, незначительным, я прожил жизнь, теперь она подходит к концу, всё как у всех, карьера шоумена казалась теперь такой далёкой, от неё уж точно не останется никакого следа.
Правда, временами я вспоминал, что изначально моя повесть преследовала совсем иную цель; я прекрасно сознавал, что на Лансароте оказался свидетелем событий, ставших важнейшим, быть может, решающим этапом в эволюции человечества. Однажды утром, почувствовав себя чуть более бодрым, я позвонил Венсану: у них самый разгар переезда, сообщил он, они решили продать особняк пророка в Санта-Монике и перенести правление церкви в Шевийи-Ларю. Учёный оставался на Лансароте, при лаборатории, но Коп с супругой уже прибыли, купили домик неподалёку от его собственного; они строили новый офис, нанимали персонал, подумывали откупить часть времени на телеканале, посвящённом новым культам. Сам он явно занимался чем-то важным и значимым, по крайней мере в собственных глазах. Но тут я никак не мог ему позавидовать: за всю жизнь меня не интересовало ничего, кроме собственного члена, теперь мой член умер, и я собирался последовать за ним, пережить тот же роковой упадок, и поделом, твердил я себе, притворяясь, будто получаю от этого мрачное удовлетворение, хотя в действительности все глубже погружался в самый обыкновенный ужас — ужас, усугублявшийся стойкой жестокой жарой и неизменной, слепящей лазурью небес.
Думаю, Изабель все это чувствовала; она смотрела на меня и вздыхала, а недели через две стало совершенно ясно, что все это плохо кончится и лучше мне опять уйти, на сей раз окончательно, мы и вправду были слишком старые, желчные, угрюмые, могли только причинять друг другу боль, попрекать друг друга тем, что ничего не можем. В наш последний вечер (жара немного спала, мы накрыли стол в саду, Изабель постаралась с ужином) я рассказал ей об элохимитской церкви и о бессмертии — обетовании, данном на Лансароте. Она, конечно, кое-что слышала краем уха, но, как и большинство, считала все это полной чушью и не знала, что всё происходило на моих глазах. Только тогда до меня дошло, что она ни разу не видела Патрика, хоть и помнит Робера Бельгийского, и что, в сущности, после её ухода в моей жизни много всего произошло, даже удивительно, почему я не рассказал ей раньше. Наверное, сама идея была ещё слишком нова и непривычна, честно говоря, я сам очень часто забывал, что стал бессмертным, приходилось делать усилие, чтобы об этом вспомнить. Но я всё же пустился в объяснения, рассказал всю историю с самого начала, во всех необходимых подробностях, сделав особый упор на личность Учёного, на то общее впечатление компетентности, которое он производил. Её ум пока тоже работал отлично, думаю, она ничего не смыслила в генетике, никогда специально этим не интересовалась, однако без труда поняла все мои объяснения и тут же сделала из них выводы.
— Значит, бессмертие… — подытожила она. — То есть вроде как тебе дают второй шанс.
— Или третий; или много шансов, бесконечное число. Настоящее бессмертие.
— Хорошо; я согласна предоставить им свою ДНК и завещать имущество. Ты мне дашь их координаты. То же самое я сделаю для Фокса. Что до моей матери… — Она заколебалась, нахмурилась. — Думаю, для неё уже слишком поздно; она не поймёт. Она сейчас страдает, ей больно, по-моему, она действительно хочет умереть. Она хочет не быть.
Меня поразило, как быстро она согласилась, и, по-моему, именно тогда я смутно почувствовал, что зарождается какой-то новый феномен. Что на Западе может возникнуть какая-то новая религия — факт сам по себе поразительный: последние тридцать лет европейской истории ознаменовались массовым, внезапным и невероятно бурным крушением традиционных религиозных верований. В ряде стран — таких, как Испания, Польша, Ирландия, — всеобщая, единодушная, глубокая католическая вера на протяжении веков определяла общественную жизнь и всю совокупность поведенческих навыков, обусловливала мораль и структуру семьи, лежала в основе всей культурной и художественной продукции, социальной иерархии, условностей, житейских норм. И вдруг всего за несколько лет, меньше чем за одно поколение, в невероятно короткий срок все это испарилось, ушло в небытие. Сегодня в этих странах уже никто не верил в Бога, не придавал ему ни малейшего значения, даже не помнил, что когда-то в него верил; более того, все произошло легко, без конфликтов, без всякого насилия и протестов, даже без особых дискуссий, с той естественностью, с какой тяжёлая глыба, удерживаемая в определённом положении за счёт внешнего усилия, возвращается в состояние равновесия, как только её отпускают. Мне подумалось, что, быть может, духовные верования человека — это отнюдь не массивный, цельный, несдвигаемый груз, каким их обычно представляют; что, быть может, они, наоборот, были в человеке самым легковесным, непрочным элементом, всегда готовым умереть и родиться заново.
Действительно, большинство свидетельств сходятся на том, что именно с этого времени число приверженцев элохимитской церкви стало быстро расти, и она, не встречая сопротивления, захватила весь западный мир. Ускоренными темпами, менее чем за два года, вытеснив из обращения западные течения буддизма, элохимитское движение легко поглотило последние обломки рухнувшего христианства, а затем взяло курс на Азию; завоевание началось с Японии и произошло с той же быстротой — тем более поразительной, что этот континент на протяжении столетий успешно сопротивлялся всем миссионерским поползновениям христиан. Правда, времена изменились и элохимизм шагал, так сказать, в ногу с потребительским капитализмом, который, сделав молодость высшей, исключительно желанной ценностью, тем самым постепенно подорвал почтение к традициям и культ предков, поскольку сулил возможность навечно сохранить эту самую молодость и связанные с нею удовольствия.