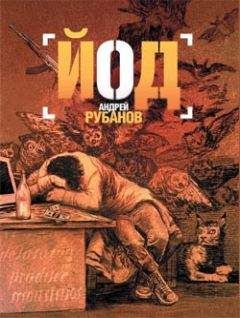Закапывали в десяти километрах от города, в селе, откуда вышла родом вся моя родня по линии матери, – с краю погоста, заросшего березняком, имелось местечко, группа разномастных надгробий – от железных пирамидок эпохи разоблачения культа личности до серьезных мраморных плит новейшего времени, – повсюду на них значилась одна и та же фамилия. Родовое кладбище. Дяде достался большой кусок земли, рядом с матерью, моей бабкой. Старухи не упустили случая поправить цветы, выбить излишне разросшуюся кое-где травку. Всех сестер было восемь, и все дотянули до девятого десятка, там текла кровь крепчайшая, на старых фотографиях сестры выглядели королевами: высокие, плечистые, грудастые, красавицы с гордыми крупными лицами. Пережили войну, оттепель, застой и перестройку. Пережили Сталина, Хрущева, Брежнева и Ельцина Бориса Николаевича.
Опустили, засыпали. Средняя тетка придирчиво ос7 мотрела могилу, прошлась вдоль ограды, с удовлетворением сказала старшей:
– Ну вот. И для нас с тобой местечка хватит. Я вот здесь, а ты с краю.
– Чего-то я с краю? Ишь ты, деловая. Сама давай с краю.
– Ладно вам, – сказала младшая. – Кто как приберется, тот так и ляжет.
После некоторого приличного количества скорбных вздохов пошли к автобусу, а я, городской хлыщ, слегка оглохший от непривычной тишины, отбрел в сторонку. Черно-белая березовая роща венчалась полем, граничившим в свою очередь непосредственно с небом, и линия, отделяющая верхнее бледно-голубое от нижнего серого, притягивала взгляд, гипнотизировала. Картинка была слишком простой, чтобы рассудок поверил в нее сразу. Морской горизонт выглядит иначе. Его вид не вызывает тоску – только возбуждает фантазию. Моря и океаны существуют сами по себе, их не пашут, не сеют. А это бесконечное поле было землей; сейчас, в середине сентября, здесь полагалось вызревать урожаю, но нигде ничего не вызревало, и вообще не проглядывали следы разумной деятельности, и ни единый механический звук не долетал до меня – только листья шумели за спиной, как бы иронически аплодируя человеческой лени.
Русского трудно заставить работать. Еще труднее убедить его обогащаться. Он уже изначально богат. У него есть главное – пространство. Место для жизни. Места неприлично много. Среднестатистический европеец или американец, разбогатев, немедленно расширяет жизненную территорию. Ареал. Приобретает просторное жилье или участок земли. Пространство умиротворяет и вообще очень мощно влияет на сознание. Однако моему соотечественнику не нужно тратить десятилетия, чтобы прикупить лишний акр. Достаточно выйти за околицу, чтобы узреть бесконечность.
Его упрекают в бесхозяйственности – а хули хозяйствовать? Вскопал, посадил – не выросло; пошел копать в другом месте. Земли много.
Достаточно посмотреть на тесные французские или немецкие города и села, где шаг с пешеходной дорожки означает вторжение на чужую территорию, где всякий квадратный метр кому-то принадлежит, передается из поколения в поколение и приносит прибыль или как минимум пользу, чтобы понять: русскому незачем быть трудолюбивым.
Он, разумеется, не глуп. Он знает, как возделать гектар, или десять гектаров, или десять тысяч гектаров – но как возделать универсум?
По той же причине русский человек, внутренне богатый, одновременно ощущает себя абсолютно незащищенным. Он не верит в закон и никогда не поверит. Никакой закон не сумеет защитить от этой черной, дико свистящей ветрами бездны – там, за околицей. Буря мглою небо кроет, сплошная метафизика, ничем не отгородиться от неба, бури и мглы.
Над простейшими салатами поминального банкетика, над бутылками (старухам взяли винца сладкого, а водку выставили по инерции или по традиции, ее никто и не открыл) очень легко, по касательной к основной теме разговоров (где, как и что поделывает дальняя родня) прозвучали полуфразы о квартире, о наследстве. Квартира теперь была ничья. При жизни бабушка наотрез отказывалась оформлять жилье в собственность, запретила даже намекать, сразу бледнела и хваталась за сердце. Считала, что как только получит официальную бумажку, утверждающую владение двухкомнатными апартаментами в центре города, так ее тут же из-за этой бумажки убь7 ют. Цветной телевизор ежедневно рассказывал ей подобные истории. Теперь выходило, что квартира отойдет сыну покойного – когда тот откинется с зоны. Моя мать оставалась ни с чем.
В свои шестьдесят, когда ее сверстницы растят морковку, она управляла системой образования целого города. Тридцать тысяч детей. Пятнадцать школ и столько же детских садов. Ее ежедневно показывали по городскому телевидению. Ее считали миллионершей. Она не возражала. У нее не было ничего. Она и отец жили на окраине, на первом этаже. Она и отец десять лет ездили на машине, подаренной мною, их сыном, еще в середине девяностых. Разумеется, она, мать моя, и мой отец, сорок лет работавшие не покладая рук и выучившие, от первого класса до десятого, на двоих примерно пять тысяч мальчиков и девочек и за это получившие от государства десяток почетных грамот и некоторую ежемесячную сумму, чтобы с голоду не умереть, – разумеется, она и не собиралась претендовать на бабкино наследство. Будь оно оформлено по всем правилам – может быть, она бы не отказалась. Но нанимать стряпчих, комбинировать, суетиться по инстанциям – нет. Не дай бог за спиной хоть раз произнесут что-нибудь вроде «наложила лапу». А ведь произнесут. И не такое произнесут. И вот квартира, в две просторные комнаты, с окнами в тихий зеленый двор, с потолками в лепнине, на главной улице (адрес произносится в четыре легких звука: «Мира, восемь») – эта самая квартира, полученная бабкой от завода за то, что всю войну она провела в «обдирочном цехе», – эта квартира без каких-либо проблем доставалась моему двоюродному братцу, чуваку с двумя судимостями, мелкому незадачливому вору, не отягощенному гражданской профессией. Доброму, в принципе, парню.
Жуя и глотая, я быстро прогнал это все в уме – из Москвы приехавший циничный коммерсант, большой умелец измерять жизнь деньгами – и подивился тому, как ловко играют с нами обстоятельства.
Я никому тут не сказал, что бросил коммерцию, – меня бы никто не понял. Особенно старухи. Они привыкли думать, что внуки, приезжающие из Москвы на собственных машинах, – сплошь бизнесмены. А иначе зачем тогда живешь в ентой Москве и откудова машина? Да и момент был неподходящий, кому-то что-то объяснять.
Папа, впрочем, водки выпил – потом, дома, когда развез старух по избам. И далее, до позднего вечера, юмористически морща свой с горбиной нос, обсуждал с матерью, где же, собственно, мне, их единственному сыну, закапывать своих родителей. То ли в городе Электростали, где сейчас происходило дело, то ли в деревне Узуново Серебряно-Прудского района, где просторно, в первоклассном черноземе лежала родня отца.
Я помалкивал и кивал. Ладони до сих пор пахли формалином. Когда мама ушла спать, отец закурил очередную сигарету, спросил:
– Как дела, вообще? Бизнес двигается?
– Еще как.
– А чего такой задумчивый?
– Решил землю купить. Лошадей завести. Козу, собаку.
Отец усмехнулся в усы.
– Даже и не начинай, – сказал он. – Лошади, козы – это очень сложно. Это тебе не бизнес. Деньги потеряешь, навозом провоняешь, ничего не добьешься.
– Папа, ты не понял. Мне сорок лет. Я больше не хочу ничего добиваться. Я просто хочу лошадь, собаку и козу. 7
– Забудь, – миролюбиво посоветовал папа. – Животные... Они болеют, они воняют, их кормить надо, возле них жить надо, постоянно... Понимаешь?
– Да.
– Так что не блажи, сынок. Понял? Не блажи.
Он понизил голос:
– С утра тебе звонили. Я матери не сказал. Чтоб не волновалась. Мужик из КГБ. Оставил адрес и телефон. Велит тебе зайти. Ты опять, небось, по-крупному набедокурил?
– КГБ давно нет, – сказал я, тоже едва не шепотом. – Есть ФСБ.
– Ну оттуда. Вызывают тебя. На беседу.
– Зачем?
– Сходи, узнаешь.
Ночью бродил, из кухни в комнату, пытался читать газеты, потом решил написать что-нибудь, создал два ублюдочных абзаца, выбросил в мусор.
Тишина здесь была хороша. Замечательная провинциальная тишина, ее очень хотелось употребить по прямому назначению. Пропитаться ею, расслабиться и чтонибудь сочинить.
Вот схоронил брата мамы. Вот постоял на краю русской пустоты, засасывающей бесконечности. Вот мысленно поплакал над добром, нажитым двумя поколениями великих тружеников и попавшим теперь в лишенные мозолей руки наименее достойного. Вот собрался все это как-то выразить, словами, на бумажном листе. Зачем? Для кого? С какой целью?
Хожу по комнате. Останавливаюсь, потом продолжаю. В тысячный раз смотрю в пропасть между искусством и реальностью. Она меня не пугает, пропасть. Я к ней привык, я стою на самом краю – и рад. Если я разбегаюсь и прыгаю с намерением достать до противоположного края – я всегда терплю неудачу. Падаю, лечу – чтоб спустя время очнуться на том же месте, на краю. Реальная жизнь всегда напротив. Ее призрак преследует меня. Я повсюду ее ищу. Я все время среди тех, кто чужд искусству. Мои дни наполнены встречами с людьми, не читающими книг и не посещающими картинные галереи. Они грубы. Некоторые вызывают во мне восторг, они прочно укоренены на своем участке действительности. Они реальны, а я – никто. Легкий утренний ветерок. Прилетел и улетел, прихватив с собой на память несколько молекул. Два-три впечатления. Два-три поверхностных взгляда. Я ничего не знаю про «реальную жизнь». Я мечтатель, мне благоволит судьба. Я добывал и добываю свой хлеб без особых усилий, и, когда я написал книгу, меня тут же объявили «крупным», «настоящим», «очень талантливым». Что может понимать в реальной жизни такой, как я? Что я могу знать о людях, которым в детстве отцы твердили: у тебя нет ни мозгов, ни таланта, твои шансы равны нулю, поэтому пристройся где-нибудь в спокойном месте, возле приличных людей и делай, как они, – авось, получится... Мне так никогда не говорили. Чаще я слышал: ты не от мира сего. Или: брось книгу, иди погуляй. А я не шел. Теперь жалею. Там, в реальной жизни, люди смеются, с удовольствием кушают, ходят в кино. А я не бываю веселым, и мой первейший товарищ – наполовину исписанная тетрадка. Я хочу в реальную жизнь, я тоже желаю смеяться и извлекать удовольствие из простых вещей. Но другой край пропасти недостижим.