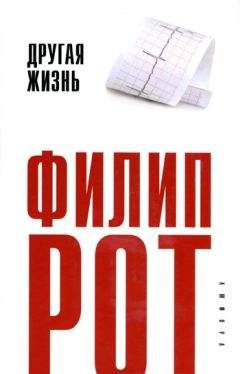— Тебя так долго недооценивали там, наверху, что теперь ты ни о чем другом и думать не можешь. Если честно, сегодня ты выглядишь просто великолепно: у тебя необыкновенно красивое лицо, красивые руки и ноги и потрясающий голос. Сейчас ты необыкновенно хороша собой и смотришься даже лучше, чем когда я впервые тебя увидел.
— Это потому, что теперь я счастлива — не сравнить с тем, когда я увидела тебя в первый раз. Я бы никогда не вышла из спячки, если б не встреча с тобой. Для меня это очень много значило. Если выразить мое состояние на разговорном английском деревенского пошиба: меня от этого прёт. И тебя тоже, я думаю. Ты выглядишь на восемнадцать.
— Восемнадцать? Как мило с твоей стороны говорить мне такие вещи.
— Ты похож на умненького мальчишку.
— Ты вся дрожишь.
— Я боюсь. Я счастлива, но очень испугана. Мой муж уезжает.
— Правда? А когда?
— Завтра.
— Ты должна была сказать раньше. Вы, англичане, любите держать все в себе. А на сколько лет он уезжает?
— Всего лишь на две недели.
— А ты можешь избавиться от няньки на это время?
— Я уже обо всем договорилась.
В течение двух недель мы играем в семейную жизнь. Уложив ребенка, каждый вечер мы ужинаем наверху. Она рассказывает мне о разводе своих родителей. Я смотрю ее детские фотографии, сделанные в Глостершире: второй ребенок в семье, выросший без отца, — одна кожа да кости, волосы заплетены в косички, и на снимке она, стоя в центре группы, обнимает двух сестер, одетых в джинсы. Я вижу письменный стол, за которым она сидит: с этого места она звонит мне каждое утро через несколько минут после того, как ее муж отбывает на работу. На столе стоит фотография, сделанная на полароиде: там изображена она с мужем, весьма солидным молодым человеком в проволочных очках-«велосипедках» шестидесятых годов, как башня, возвышающимся над ней. Еще так недавно они учились в колледже! Мысль об этом совершенно вышибает меня из колеи.
— У нас было очень спокойное существование, — говорит она, когда я показываю ей фотографию, чтобы порасспросить о прошлом. — Если говорить в общем и целом, для обоих этот брак был очень удобен: мы вполне подходили друг другу.
Когда мы встречаемся с ним в лифте, то равнодушно проходим мимо друг друга, делая вид, что перепады настроений и страсть не имеют к нам никакого отношения. Ширококостный, с румяным лицом, сильный и удачливый человек лет тридцати, он никогда не старается произвести на меня впечатление, подавляя только своими размерами: он — первоклассный парень, который любит, чтобы вокруг него было много шума и всегда толпился народ; передо мной он предстает как выпускник Итона, отгородившийся непрозрачной стеной, а я, в свою очередь, делаю вид, что никогда не видел его жену. Если бы это была драма эпохи Реставрации, зрители покатывались бы со смеху, поскольку в этой пьесе муж наставлял бы рога незадачливому любовнику-импотенту.
Выпив много вина за обедом, она расслабилась и уже не казалась такой сдержанной и рассудительной, как раньше; я же, глядя на нее, непрестанно думал о том, что ее муж, швыряющий в нее тарелки в припадке ярости, а потом не разговаривающий с ней много дней подряд, все же более подходящий партнер для нее, чем я, поскольку я физически не в состоянии доказать ей свою любовь. Да, в жизни есть неразрешимые проблемы, и эта — одна из них.
— У меня никогда раньше не было бойфренда-еврея. Разве я тебе об этом не говорила?
— Нет.
— Еще в университете я взасос целовалась с одним марксистом из Нигерии, но дальше поцелуев дело не зашло. Он учился со мной на одном курсе. В нашем захолустном Глостершире у меня тоже бывали бойфренды — в основном мальчики из сельских аристократических семейств, — но все они были тусклыми и маловыразительными. Скажи мне, когда будешь уходить, — я пьяна.
— Мне никуда не нужно уходить. — Но я должен, обязан был уйти: она соблазняла меня каждым своим словом, подталкивая к тому, чтобы я рисковал своей жизнью.
— В моем прошлом присутствовала не только череда нереализованных желаний; видишь ли, во мне бурлила удивительная смесь из подавленных страстей и свободы.
— Да? На чем же основывалась эта свобода?
— Мое чувство свободы связано с лошадьми. Верхом можно перекрыть огромные расстояния в любое время дня, можно встретить массу людей на своем пути. Если бы я была хоть на каплю уверена в себе в сексуальном плане, я могла бы трахаться со всеми подряд уже лет с двенадцати. Для меня это не представляло бы никаких сложностей. Немногие реально занимались этим делом, но куча народу тратила кучу времени, чтобы сблизиться с кем-то.
— Но не ты.
С печальным лицом она отвечает:
— Нет, только не я. Никогда. А ты не хочешь взглянуть на один из моих рассказов? Это история про то, как люди бесцельно слоняются по английским болотам с собаками, и там полным-полно охотничьего сленга, и мне совершенно непонятно, значит ли это хоть что-нибудь для того, кто родился в двадцатом веке. Ты действительно хочешь почитать мой рассказ?
— Да. Хотя я не ожидаю, что это окажется увлекательным чтением. В колледже я перестал читать литературу Викторианской эпохи, потому что никогда не мог понять разницы между викарием и пастором.
— Я не должна была показывать его тебе, — говорит она. — Запомни: я никогда не стремилась добиться свежести восприятия. Рассказ начинается так: Все охотники бранятся без удержу, с губ у них срываются сплошные грубости и непристойности. Когда я была маленькой девочкой, соседи выезжали на охоту, сидя в дамском седле…
Когда я заканчиваю последнюю страницу, она говорит мне:
— Я же тебя предупреждала… Все это было хорошо известно и раньше.
— Но от тебя я этого не слышал.
— Если тебе не понравилось, смело скажи мне об этом. Не стесняйся.
— Дело в том, что ты пишешь гораздо лучше, чем я.
— Не говори ерунду.
— В твоем творчестве гораздо больше свободы, чем у меня.
— Ну уж это ни в какие ворота, — отвечает она с легким негодованием. — В мире огромное количество образованных людей, которые способны бегло писать на хорошем английском. Нет, эта вещица ничего не стоит. Все, что там описано, — разговоры вокруг да около — далеко от цели. В моем рассказе может заинтересовать лишь сочетание той удивительной брани, что была в ходу в девятнадцатом веке, и неистовство, с которым сквернословят герои. Что ж, думаю, это все. Есть литература, которая, как ракета, с шумом взвивается в воздух и падает, убивая массу людей; есть литература, которая бьет мимо цели, потому что взрывчатка не срабатывает; и есть литература, которая целит прямо в голову автора, ее породившего. То, что я создаю, не попадает ни под одно из этих определений. В моих рассказах нет ярости, нет энергии. И то, что создано мною, никто не может использовать как дубинку. Я описываю такие английские добродетели, как такт, здравый смысл, иронию и сдержанность, а эти темы катастрофически старомодны. К сожалению, все они приходят ко мне совершенно естественно. Если бы у меня хватило наглости рассказать об этом всем и написать о тебе, ты бы вышел довольно симпатичным человеком. Знаешь, как мне надо было бы назвать свои рассказы? «Записки ретрограда».
— А может, ты такая на самом деле.
— Тогда я тебе точно не подхожу.
За два дня до возвращения ее мужа.
— Вчера ночью мне приснился сон, — говорит она.
— О чем?
— Как бы тебе сказать… Мне очень трудно описать то место, в котором я находилась. Верфь, открытое море, гавань, что-то вроде этого. Я не знаю, как точно называются эти вещи, но я их точно видела. Открытое море было слева от меня, а затем — причалы, пристани, места для погрузки и все такое прочее. На мне пальто. За пазухой у меня сверток — ребенок, но это не моя дочь, это чужой ребенок, и я не знаю, кто это такой. Я плыла к причалу, спасаясь от чего-то. Там были еще мальчики на одном из дальних причалов, они прыгали и махали руками, подбадривая меня: «Давай, давай!» Потом они жестами указали мне, чтобы я повернула направо. А когда я посмотрела направо и начала плыть в том направлении, там, справа, оказалась еще одна небольшая бухточка, водяная заводь, где на берегу стояла небольшая лодочная станция. Над ней был огромный навес, как на железнодорожной станции, огромная крыша. Мальчики подсказывали мне, чтобы я взяла лодку и плыла дальше на ней, работая веслами. Прямо в открытое море, конечно. Они все махали мне и кричали: «Иудея! Иудея!» Но когда я доплыла до этого места и хотела взять лодку (я видела, что несколько болталось у причала), оказалось, что все они связаны вместе. Я все еще стояла по пояс в воде, но вдруг поняла, что там был мой муж, который отвечал за все эти лодки, и что он ждал меня там, чтобы забрать домой. И на нем был зеленый твидовый костюм. Вот такое мне приснилось.