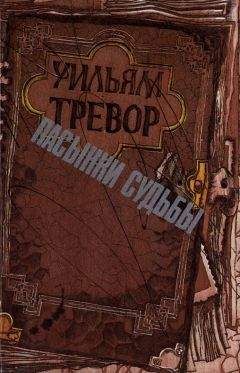— Ко мне, старикан Терлох, — сказал сеттеру Жиряк Дрисколл и погладил его носком башмака по боку, а она подумала: поди пойми, какие у Жиряка мысли. Ясно одно, какие бы мысли у него ни были, они такого толка, что в разговоре их лучше обходить стороной.
— Я завернул для него чуток фаршу, — сказал Жиряк Дрисколл — он теперь частенько баловал Терлоха под тем предлогом, что, мол, иначе фарш хоть выбрасывай. По усадьбе в тот вечер, когда он поджидал в передней солдат, тоже бегал сеттер: Брин и Магуайр затолкали его в погреб, чтобы ненароком не цапнул.
— Добрая вы душа, мистер Дрисколл, — пробормотала мисс Мидлтон и на прощанье с улыбкой кивнула ему. Они были одногодки — что ей, что ему шел шестьдесят седьмой год: ему давно пора было уйти на покой. И он бы тут же ушел, разоткровенничался как-то с ними Жиряк Дрисколл, будь у него сын — тогда он о ставил бы лавку на него. А так лавку не миновать продать, но всякий раз, как доходит до дела, у него просто рука не поднимается подписать купчую.
— Ну совсем как у нас с Карраво, — сказала она ему тогда, хотя на первый взгляд никакого сравнения тут и быть не могло.
Все вечера подряд они просиживали на просторной, запущенной кухне, слушали новости. Беспорядки идут только в Белфасте и Дерри, сообщало радио, кроме Белфаста и Дерри, везде тишь да гладь. По пятницам они слушали разговоры в баре миссис Кьоу и в гостинице.
— Слава тебе господи, Юга это не касается, — часто повторял, словно заговаривая себя, мистер Хили.
Первые английские солдаты высадились на севере Ирландии, и вскоре люди хоть и повторяли по-прежнему, что, кроме Белфаста и Дерри, везде тишь да гладь, но не так уж часто. Стычки случались и в Фермане, и в Арме, и в пограничных деревеньках и городках. Один премьер-министр ушел в отставку, за ним другой. К войскам относятся неприязненно, писали газеты, у правительства вошло в практику интернирование. В городе, и в протестантской церкви святого Патрика, и в Успенской церкви, служили молебны о ниспослании мира, но мир не наступал.
— Дело — табак, мистер Мидлтон, — сказал как-то утром в пятницу мистер Хили. — Если нынешним летом приедет десяток туристов, нам, можно считать, повезет.
— Повезет?
— Еще бы, ну кто поедет в страну, когда в ней такая заваруха?
— Не у нас же, на Севере.
— Это вы вашим туристам расскажите, мистер Мидлтон.
Процветание города пошло на убыль. До границы было километров сто с гаком, но клочья военной мглы, окутавшей границу, доползли и до них. Город нищал, среди горожан росло недовольство, а с недовольством пошли и хорошо знакомые по былым дням разговоры. Разговоры о том, какие зверства творили одни и какими зверствами отвечали им другие, и о винтовках, и о взрывчатке, и о правах народа. Ожесточение — торговля-то захирела — вдруг дало о себе знать в баре миссис Кьоу, давало оно знать о себе и в опустевшей гостинице.
По пятницам Мидлтоны — поначалу лишь от случая к случаю — нарывались на молчание. Можно подумать, горожане через двадцать лет вдруг припомнили им британский флаг в окне машины и посмотрели на него иными глазами. И не нашли ничего смешного ни в нем, ни в их взглядах, которые они так ненавязчиво высказывали, да и сами Мидлтоны перестали быть для них просто старыми чудаками. Мало-помалу в городе повсюду назревали перемены, и вот уже Жиряк Дрисколл сердился, когда вспоминали, что он, бывало, откладывал фарш для их пса. Он устроил засаду во вражеском доме, поджидал с винтовкой солдат, чтобы они не ушли оттуда живыми, — вот это бы и вспоминали.
А один раз, завидев их машину, каноник Келли отвел глаза, и они заметили, хотя он вовсе того не хотел, как он повернул голову. А в другой раз миссис О’Брайен — а ведь, бывало, она разлеталась к ним в гостинице — не ответила, когда они заговорили с ней.
Мидлтоны, само собой, эти щелчки по носу никогда друг с другом не обсуждали, но каждый втайне знал, что нет такой темы, на которую они могли бы поговорить с горожанами. Верность былому, которую они хранили и пронесли через все эти годы, перестала забавлять горожан. И прикати они теперь в город с британским флагом, их бы — вот что уму непостижимо — пристрелили.
— Это никогда не кончится, — горько заметил он однажды вечером, прислонясь к комоду, на котором стоял приемник.
Она вымыла после ужина тарелки, потом ножи, вилки.
— При нашей жизни — нет.
— На этот раз будет еще хуже.
— Да, еще хуже.
Они убрали со стены в передней портрет отца в мундире ирландского гвардейского полка: негоже в такое время оставлять его на виду. Убрали и фамильный герб, и крест святого Георгия, и британский флаг из вазы на каминной полке в гостиной, который стоял там со дня коронации Елизаветы II. Убрали не от страха, а в знак траура по modus vivendi[72], так долго сохранявшимся между ними и горожанами. Они стали покупать мясо у мясника, который хотел перестрелять английских солдат в их передней, а он в свою очередь стал давать им фарш для пса. За полвека враждебность постепенно рассеялась, и они жили в обстановке терпимости, а теперь, сколько бы им ни осталось жить, им ее никогда больше не знать.
Как-то вечером в ноябре издох их пес; закопав пса, он сказал: ну и пусть творится бог знает что — стоит ли так расстраиваться. Ведь и они помрут, а усадьба обрушится — передать ее некому, и былое уйдет наконец на упокоение. Но она придерживалась другого мнения: установившийся modus vivendi их не тяготил, потому что им было легко сносить обнищание, пока город процветал. Это сообщало их жизни смысл, своего рода достоинство: они сумели наладить мирные отношения — им было чем гордиться.
Он ничего не ответил ей, но чуть погодя — все же смерть пса разбередила обоих — вдруг выпалил, что в их годы с оставшегося клочка Карраво им не прокормиться. Придется продать и кур, и скот. Говоря, он не спускал с нее глаз — она кивала, значит, соглашалась. Время от времени, думал он, они на черепашьей скорости будут тащиться в город, тратить свои сбережения на бакалею и мясо и нарываться на злобное молчание, которое будет тем больше сгущаться, чем ближе будет придвигаться их смерть и чем больший урожай будет собирать смерть на другом конце острова. Она чувствовала, что он тоже думает об этом, понимала, что он прав. Они умрут, не зная дружбы, и причиной тому былое. Убили бы их тогда прямо в постелях — все бы лучше.
— Вы и правда молодчина, — сказал он.
Мелкорослый, оплывший жирком, с оплывшим жирком лицом, сероватым там, где он брил бороду; волосы его, тоже иссера-сивые, падали на лоб челкой. Одет неряшливо, под пиджаком красная водолазка, из нагрудного кармана торчат шариковая ручка и карандаш. Он встал — черные вельветовые брюки как собрались гармошкой, так и не расправились. Нынче чуть не все так ходят, отметила про себя миссис Молби.
— Мы хотим помочь им, — сказал он, — и, само собой разумеется, хотим помочь и вам. Цель нашей программы — способствовать лучшему взаимопониманию. — Он улыбнулся, открыв мелкие ровные вставные зубы. — Между поколениями, — присовокупил он.
— Доброе дело, что и говорить, — сказала миссис Молби.
Он покивал головой. Отхлебнул растворимый кофе, который она приготовила для него, отщипнул краешек розовой вафли. И словно не в силах совладать с соблазном, макнул вафлю в кофе.
— Сколько лет вам исполнилось, миссис Молби?
— Мне восемьдесят семь лет.
— Для своих лет вы на удивление хорошо выглядите.
На этом он не остановился. Сказал, что надеется так же хорошо сохраниться к восьмидесяти семи годам. И надеется даже, что он еще будет «обретаться на земле живых»[73].
— В чем есть сильные основания сомневаться, — сказал он со смешком. — Зная мои возможности.
Миссис Молби не знала, что он имеет в виду. Она все хорошо расслышала, в этом она была уверена, но ей не припоминалось из его слов ничего, что бы указывало на слабое здоровье. Пока он отхлебывал кофе, возился с раскисшей вафлей, она все основательно обдумала. Из его слов выходило, что, если бы она его знала, она бы сильно сомневалась, доживет ли он до преклонных лет. Может быть, он успел ей сообщить что-то еще о себе, а она из-за тугоухости не расслышала? Если же нет, зачем он говорит полунамеками? И как знать, что лучше — улыбнуться или посочувствовать?
— Вот я и подумал, а что, если мы пошлем к вам ребят во вторник? Скажем, пусть примутся за дело во вторник с утра пораньше, а, миссис Молби?
— Спасибо вам за вашу доброту.
— Ребята они славные.
Он встал. Поговорил о волнистых попугайчиках — у нее жила парочка, о герани на подоконнике. Комната у нее теплая — ну прямо печка, сказал он, а на улице страшный холод.
— Только я вот что подумала, — сказала она, решив наконец, что необходимо сказать о своих сомнениях, — вы часом не ошиблись адресом?